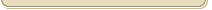Акция Архив

Литературная премия журнала "Север"
Лауреатами литературной премии журнала «Север» за 2023 год стали Анатолий Ерошкин (Петрозаводск – Краснодар), Егор Перцев (г. Олонец, Республика Карелия), Николай Полотнянко (г. Ульяновск).

3 марта стартовал молодежный конкурс журнала «Север» «Северная звезда»-2024



Позвоните нам
по телефону
− главный редактор, бухгалтерия
8 (814-2) 78-47-36
− факс
8 (814-2) 78-48-05
"Север" № 11-12, стр. 163
Я покажу вам Россию
Станислав ОЛЕФИР, ПРОЗА
Станислав ОЛЕФИР
г. Приозерск, Ленинградская область
Я ПОКАЖУ ВАМ РОССИЮ
Родители Володи Молокова родились в Китае, работали на железной дороге в российском городе Харбине и, если бы этот город не передали Китаю, жили бы там до сих пор. Но передали! Тех харбинцев, которые приняли китайское подданство, забыли навеки, а кто решил возвратиться в Россию, судили и отправили в колымские лагеря. На пять лет. За измену Родине!
В бесконечных спорах с Молоковым я так и не понял, какую родину предали его папа и мама: Китай или Россию? Но ведь предали же! Задаром на Колыму не отправляют.
Я к чему это говорю – на Колыме хватает русских, прибывших из Китая, Кореи и даже Австралии. Так вот они-то и есть самые большие патриоты России. Слишком уж крепко вложили в них предки любовь к исторической родине.
Без судимости попасть на Колыму не так просто. Особенно капиталистам. Поэтому-то все их визиты мы помним наперечет.
Первым, еще во время войны, гостил американский госсекретарь Уэллес. Очень уж ему нужно было знать, хватит ли золота рассчитаться за американские «дугласы», «студебекеры» и «либертосы»? Прилетел, пощупал золото своими руками и убедился: хватит!
Потом приплыла японская подлодка. Говорят, у японского матроса начался аппендицит, вот в Магадан и завернули. Ночь. Пришвартовались, вызвали по ноль три «скорую помощь», но телефона наших пограничников не знали. Так до самого полудня вокруг Ногаевской бухты и шарахались. А у нас там база подводных лодок! Почему не пошарахаться?
Когда все наши подлодки перевели на Камчатку, больше японцы возле нашего порта не болеют. Теперь это дело у них случается возле Камчатки.
Под конец прибыли и иноземные журналисты. Семнадцать душ! И это на Колыму, по которой даже мы из поселка в поселок ездим по пропускам.
Журналисты – улыбчивые и щедрые, как матросы из команды капитана Кука! Особенно японцы. Каждому, с кем беседуют, по чашечке для саке дарят. Еще ручку хитрую. Смотришь сверху – там красивая японка в халате с драконами, перевернул – уже без халата! И первому секретарю обкома, и председателю облисполкома такое чудо подарили. Как зеркальца дикарям. Народ это понимает, немного возмущается, но каждый не откажется получить такой подарок. Интересно же! Да и халява!
До меня тоже добрались. Сижу вечерком в детском санатории, развожу лямуры с медсестричками (я потом на одной женился!), и вдруг звонок. Телефонирует главный идеолог обкома партии. Так, мол, и так. Привезли к вам семнадцать журналистов из капиталистических стран, сейчас у них торжественный ужин в ресторане, потом все отправляются в Дом культуры, где вы, товарищ писатель, вручите им свои книги. Мы все привезли с собой. Осталось только подписать и вручить.
Я, понятно, в телячий восторг: «Буду! Обязательно!» и принялся одеваться, но одна из сестричек меня сразу остудила:
– Ну, ты, Олефир, и прости господи! Пока эти капиталисты коньяки с шампанским в ресторане пили, тебя не звали, а ужрались до икоты, можно и на местную диковинку посмотреть. Рояль в кустах получается, а не писатель. Никакой в тебе гордости нет. Я бы не пошла!
Что здесь началось! Одни говорят – идти, другие – не идти. К счастью, явился Молоков и всех поставил по местам: «Идти обязательно! Но специально не одеваться. В Америке красиво одеваются только негры. Вести себя независимо. Первому руку не подавать, этих штук с голыми бабами не брать. Я буду рядом».
Приходим. Там везде строгость. Милиционер Коля-свист стоит на двери. Выпивши, но строг до неузнаваемости. Интересуется, кто, мол, такие?
Представляюсь:
– Писатель Олефир.
А Молоков:
– Читатель Молоков.
Коля-свист на мгновенье задумался:
– Молоков? Слышал. Проходите. А вы, Олефир, подождите.
Обидно, но жду. Пришел партийный секретарь, обнял меня, затем на всякий случай и Молокова, повел к журналистам. Там на столе стопка моих книг. Молоков раскрывает в нужном месте, я подписываю, все вместе вручаем. Заработало! Улыбки, всякие «данке шён», «сэнкью», «мерси».
Потом и нам попытались ручки с голыми японками вручить, но Молоков запротестовал:
– Благодарим! У нас в санатории голых женщин полный бассейн. Хоть так переворачивай, хоть этак – все равно голые! У вас случайно японских крючков на хариуса или французской лески с собой нет? Вот это нам бы пригодилось. А остального нам самим девать некуда.
Переводчики Молокова переводят, иноземные журналисты удивленно слушают, поглядывают с укоризной на японца и француза. Как же, мол, так, коллеги, – приехали на Колыму без крючков и лески? Дикость какая-то!
Книги вручили, глядим, а за нашими спинами стол всевозможной выпивки и закуски. Фуршет называется. Выпили с журналистами за знакомство, потом за дружбу, еще по одной за Россию. Закачало. Я домой намылился, а Молоков никуда. Очень уж ему глянулась американская переводчица. Она тоже в его сторону неровно дышит. Сразу призналась, что дедушка у нее русский, а зовут ее Сандра.
– А по-нашему как? – интересуется мой друг.
– Александра.
– Шурка, значит! – возликовал захмелевший Молоков. – Ты замужем?
– Нет. Не замужем. И детей нет, – откровенно призналась американка.
– Насчет замужества у нас самих напряженка, – посетовал Молоков. – Но вот детей можем организовать! – И тащит за руку в коридор.
Партийный секретарь подобного оборота испугался, пытается притормозить события, а Молоков упал перед ним на колени и взмолился:
– Ну зачем вы так? Дайте мне хоть одного русского в Америку отправить! На память. А то побывает девушка в России и вспомнить нечего…
На второй день явился ко мне домой. Очень уж, по всему видно, вчерашнее зацепило:
– Ты не представляешь! У этого секретаря программа на всю неделю расписана: поездка в совхоз, школу-интернат, детский садик. Потом еще рыбозавод, встреча с шахтерами, а на закусь – эвенский ансамбль, в котором почти одни буряты. Люди Россию хотели посмотреть, а им наших двоечников демонстрировать будут, словно в Америке своих дураков нет.
– А мы здесь при чем?
– Как это «при чем»? А настоящую Россию кто показывать будет? Завтра у них гостевой день. По семьям ходить будут, чтобы о жизни расспросить. Мы Шурочку с ее журналистом и заберем. Я с Лёвой Мюллером уже договорился. В пять утра выезжаем.
Пять утра на Колыме глупая ночь, но автозак уже у порога. Обычно на нем возят заключенных, сегодня он в нашем распоряжении. Горит печка, в одной из клеток для особенно буйных свалены матрацы, фуфайки, ватные штаны, валенки. Все, конечно, бывшее в употреблении, но едем-то в тайгу, а с ней в пятидесятиградусный мороз шутки плохи.
На скамейках десять журналистов и две переводчицы, у печки Лева Фонарев. Мой друг вместе с Сандрой в кабине. Увидел меня, выскочил и виновато пожал плечами:
– Я сказал им, что приглашаем двоих, а их вон сколько. Не прогонять же?
– Нормально, – успокаиваю друга, забираюсь в автозак и объясняю программу. – Едем на Манычан. Это больше ста километров. Там наша охотничья база. По пути остановки у золотоносного полигона, где побывал американский госсекретарь Уэллес, затем в стойбище оленеводов и в нашей охотничьей избушке.
Если понравится, заночуем. Вчера вы спрашивали, можно ли поговорить с заключенным? Пожалуйста! Лев Фонарев, партийная кличка Мюллер. Окончил две разведшколы – немецкую и японскую. Владеет шестью языками и всеми видами оружия. В лагерях провел двадцать четыре года. Сейчас заведует нашим фотоателье. Можете спрашивать, записывать, фотографировать.
После, выдержав паузу, дополняю: – По плану сегодня у вас гостевой день. Вот в нашу охотничью избушку и приглашаем. Идея, конечно, моего друга Володи. Слишком уж ему ваша Сандра понравилась.
Журналисты и переводчицы заулыбались, кто-то поаплодировал, и покатили.
Память у Левы Мюллера отменная, порассказать любит. В поселке своими воспоминаниями всех достал, а здесь такая аудитория! И, главное, возможность продемонстрировать иноземные языки. В первую очередь не оставил живого места на информации, которой журналистов напичкали перед поездкой на Колыму, затем принялся начинять своей. Лагеря, фамилии, статьи, сроки – все назубок. Где по-немецки, где – по-японски или английски, а где и с матерком. Интересно!
Переводчицы на словах «козел», «падла буду», «век воли не видать» спотыкаются, но Лева Мюллер не торопит. Пусть работают, пусть передают атмосферу.
Первая остановка у Пьяного ручья. За ручьем никто не видел живого гаишника, поэтому положено выпить. Вылезли. Первый тост за шоферов, второй – за гаишников, третий – за дружбу народов.
Забрались в автозак, постелили матрацы, укрылись фуфайками – и спать.
Через час новая остановка. Полигон, на котором во время войны добывали золото и где, по заверению Левы Мюллера, гостил сам Уоллес. Сфотографировались и снова в дорогу. Теперь спать не ложились, потому что Молоков предупредил: будет сюрприз, для которого нужно тепло одеться.
Каждый сам подбирал валенки, шапку, ватные брюки, фуфайку. На некоторых остались бирки с фамилией заключенного и номером отряда. Надевали и фотографировались прямо в автозаке. Смех, подначки. Интересно!
Остановились в русле промерзшего до дна ручейка, Молоков наказал молчать, и все, кроме Левы, отправились следом за ним в тайгу. Шли долго, по лицам видно – некоторым это уже не интересно и не прочь вернуться к автозаку.
Наконец, остановились. Молоков наказал приготовить фотоаппараты, сам вместе с Сандрой выбрался на небольшой бугорок. Это берлога старого медведя. Лет пять тому назад мы с Молоковым заготавливали здесь сено, и он украл у нас пять банок сгущенки. В отместку мы хотели устроить на него охоту, потом подружились и даже выведали берлогу. Теперь, если случается, заглядываем в гости и немного дразним. Оленеводы сказали, что колымские медведи ни в коем случае не оставляют берлогу зимой. На морозе ему верная гибель. Вот и сидит, хоть оторви ему лапу, а здесь такой случай!
Молоков проковырял в крыше дырочку, лег на живот и сказал в эту дырочку: «Привет, лохматый! Как дела?» После сунул туда расщепленный ивовый прут, повертел и наказал Сандре дернуть. Та дернула, из берлоги донеслось глухое рычание. Сандра мгновенно забыла русский язык и зашептала по-американски:
– Who is there?1
– Медведь, кто же еще? – удивленно объяснил Молоков. – Любой зарычит, если вот так за шерсть дернуть. Держи на память. – Встал на одно колено, рыцарским жестом подал ей прут с пучком шерсти в расщепе и крикнул журналистам:
– Фотографируйте! Скорее!
– Whom to make picture?2 – спросил приблизившийся к самой берлоге американский журналист.
– A bear lives here! This is his house! It seems to be angry!3 – закричала Сандра и в испуге прижалась к моему другу. Остальным прижиматься было не к кому, и они бросились кто куда.
Вернулись к автозаку, посадили Леву за руль, сами окружили Молокова. Угощают коньяком, переводчицы завидуют Сандре, слушают моего друга даже уважительней, чем отсидевшего двадцать четыре года в лагерях шпиона. А Володя с покровительственным видом объясняет:
– На Рязанщине, к примеру, медведи в берлоге спят чутко. Лишь к берлоге приблизишься, выскакивает и бросается на охотника. Только собаки и спасают. В Сибири морозы покрепче, в другой раз медведя шестом выковыривать приходится. А уже в Приморье никакой берлоги не делает. Сядет под толстым деревом, вот так лапы на животе сложит и ждет, когда снегом занесет. Так, сидя, всю зиму и спит. У колымских медведей берлога все равно зимний дом или квартира. Хорошую берлогу все медведи знают, чуть захолодает, бегут занять. Бывает, даже дерутся. Поэтому с морозами не выгонишь.
– У вас медведи такие разные? – удивленно спрашивает японский журналист, которому до сих пор стыдно, что приехал в Россию без крючков.
– Медведи у нас практически одинаковы. Просто страна у нас большая, климат везде разный, вот каждый по-своему и зимует, – с гордостью объясняет Молоков. – Это не ваша Япония – в любую сторону до моря доплюнуть можно, а у нас – Россия!
Набирали выпивки на два дня, а к стойбищу оленеводов подъехали почти насухую. Там тех пастухов двадцать человек вместе с детьми, а только по полстакана угостить и досталось. Те не в обиде. Улыбаются, поят чаем, правда, чтобы сфотографироваться, одеться в праздничные одежды не хотят. Журналистам невдомек, что оленеводов фотографировали уже сто раз и корреспонденты, и туристы, и геологи, но вот прислать фотографию никто не догадался. Да и куда присылать? «Колыма. Яранга оленеводов»?
К счастью, Сандра (что ни говори, а русская душа, которой больше благодати не когда берешь, а когда даешь) достала из сумки «Полароид», принялась щелкать и тут же вручать фотографии.
Что здесь началось! Смотрят, хохочут, пальцами в снимки тыкают. Потом одни кинулись переодеваться, другие запрягать оленей, третьи тащат детей. Фотографируют их на руках, и на оленях, и в обнимку, и, конечно же, в компании с журналистами. Весело. Поставили гостевую ярангу, принесли котел, забили самого упитанного оленя, фляга с брагой тоже нашлась. Пир на весь мир.
У оленеводов и заночевали и больше никуда не ездили. Домой возвращались утром. При переезде через небольшую речку провалились в наледь, пока вытаскивали автозак, убрехались по самые никуда. Хорошо зэковской одежды хватило на всех. В ней и к гостинице подъехали. Дежурную, когда целую орду веселых, орущих по-иноземному зэков увидела, чуть кондрашка не хватила. А полукитаец Молоков обнимает полуамериканку Сандру и хохочет:
– Это тебе, Шурочка, не какая-нибудь Америка! Это наша с тобой Россия!
БЫТЬ ПАПОЙ
Не все знают, но природа, а может, и сам Всевышний внимательно следят, чтобы у всех детей был папа. Вывела, к примеру, трясогузка птенцов, а папу схватил коршун. На второй день возле малышей уже новый родитель. Такой же заботливый, старательный и неугомонный. У лисиц так вообще два гона. Первый за право обладать лисицей. Гоняются друг за дружкой, рычат, кусаются. Побеждает сильнейший, который, как и положено победителю, пользуется благосклонностью лисицы. Через полтора-два месяца второй гон. Этот за право быть отцом будущих лисят. Там из первой свадьбы ни одного лисовина, но снова сражаются, не щадя живота, и снова побеждает сильнейший. Роет для новорожденных лисят нору, таскает им мышей и кур, с риском для жизни защищает от врагов.
Но самый чемпион среди пап кулик-плавунчик. Этому куличиха снесла четыре яичка и улетела резвиться с такими же куличихами. А родитель сам и яйца насиживает, сам и деток нянчит, сам и в теплые края сопровождает.
А вот глухарь, после того как нагулялся с глухаркой, прячется в кусты. Менять перья. До середины лета и линяет, а глухарка возится с его детьми одна-одинешенька. Отсюда и выражение: «Слинял!»
Не знаю, как у глухарят, но у человечьих детей, чей папа слинял в кусты, здоровье совсем неважное. Не зря же в детском санатории, где работаю воспитателем, безотцовщины более чем достаточно. Врачи подбирают им всевозможные капли с таблетками, а мы с музыкальным работником Переверзевым пап. Пусть не навсегда, а лишь на один заезд, но на безрыбье и чайник – соловей. Приглашаем оказавшихся под рукой мужиков на «дни именинников», спортивные соревнования и всевозможные утренники. Те, которые с важным видом сидят в президиуме, нам неинтересны, но вот те, у которых загораются глаза принять участие в детских развлечениях, уже наши. Теперь без них не проходит ни одно мероприятие. Но главное даже не это. Главное, дети сами чувствуют таких мужиков и облепляют со всех сторон. Добро бы только облепляли, но еще и вытирают об их парадно-выходные штаны свои сопли.
Мы поддерживаем авторитет этих дядек как можем. Сочиняем самые героические биографии, оформляем на почте, будто бы от них, поздравительные телеграммы, заставляем вручать детям купленные за счет санатория подарки. Мужики загораются, ждут не дождутся снова искупаться в детской любви, некоторые даже отпрашиваются с работы. Как же иначе? Дети-то ждут!
Не секрет, школьники дают своим учителям клички. Тех, кого не любят, зовут Колодка, Пеструшка, некоторых вообще мужской дразнилкой – Поп Гапон или Пиночет. А вот кого любят – уменьшительным именем: Галя, Евгешка, Леночка. Меня за глаза называли Стасиком, Переверзева – Шуриком. Мы этим гордимся, но до участкового милиционера Николая Николаевича нам далеко. Этого кликали Коля-Коля. Если приходил в гости, встречали у самых гаражей и так засоплививали его галифе, что оно блестело, как хромовые сапоги.
Был Коля-Коля таким маленьким и худеньким, что издали его можно принять за школьника. Да что там издали. И голос-то тоже имел тихий и немного грустный. Остановит нетрезвого шофера и разговаривает с ним таким извиняющимся тоном, словно это сам нарушает все правила.
Раньше я объезжал его стороной. Из-за мотоцикла. У нас Колыма: сто рублей не деньги, сто лет не старуха, сто километров не расстояние. Ни за грибами, ни за ягодами пешком не потопаешь. Лучше всего на мотоцикле. А у меня никаких прав. Вот контрабандой и гонял. Потом мотоцикл украли. Жаль, конечно, но не я первый. То и дело слышим о подобных неприятностях. Пожаловался нашим слесарям о такой беде, на том и стало. Вдруг является участковый и спрашивает, почему не подаю заявление о пропаже мотоцикла.
– Все равно не найдется, – объясняю ему.
– Почему не найдется? Даром, что ли, четыре года учили разыскивать ворованное?
А в голосе такая обида, словно самого подозреваю в этом хищении.
И что же? Нашел! Через неделю приглашает в гараж: стоит мой бродяга! Можно садиться и ехать домой. Только нужно забрать и мое заявление. Украли мотоцикл-то совсем молодые парни. Не хочется портить им биографии.
Я, конечно, забрал. Но главное не это. Главное, рядом с мотоциклом пылится целая гора медвежьих, волчьих и оленьих шкур. Некоторые даже с головами! Дальше всякие чемоданы, коробки, какие-то приборы. А от одного вида резиновых лодок можно сойти с ума! Милиционер видит мой восторг и сообщает, что это оставшиеся от прежнего участкового вещественные доказательства. У нас-то через Аляску торговля налаживается, да и так ездят делегации. Вот контрабанду задержали, а найти хозяев не получилось. По инструкции все это нужно уничтожить или передать заинтересованной организации. Но здесь курортный поселок, а не какой-то колхоз. Придется уничтожать.
– Не надо! – запротестовал я. – Мы и есть самые заинтересованные. У нас и сирот, и аборигенских детей хватает, а здесь сколько добра! Вы к нам в воскресенье приходите. Когда ни лечения, ни процедур. С самого утра будем ждать.
Пришел. Вернее, приехал. Да не с пустыми руками, а с коробкой конфет, фломастерами и тренажером для юных автолюбителей. В парадной форме, при оружии и трех медалях. Детям интересно. Спрашивают, за какие подвиги получил, просят подержать пистолет. Узнали, что тоже детдомовец, воевал в Афгане, опробовали пистолет и утащили в игровую комнату.
В столовой все накрыто, малышовская группа давно звенит ложками, а наши крутят руля. Тренажер электрический, чуть не туда крутанул или слишком разогнался, сразу на весь санаторий: «Вау! Вау!» И освобождай место следующему. Даже у меня с Переверзевым без аварии проехать через перекресток не получается. А у Коли-Коли к нам никакой жалости. Включает самый сложный режим и выговаривает так, словно мы и на самом деле устроили аварию. Когда, наконец, дали команду идти в столовую, дети – скопом к дежурному врачу: «Можно дяденька милиционер с нами кушать будет?» Та разрешила, только наказала надеть белый халат.
Хотя Коле-Коле скоро тридцать, он холостяк. Почему? Я даже не интересовался. Знаю, был ранен, долго лежал в госпитале. Вот и все. Да это и не главное. Главное, он полюбил нас, а мы его. Скоро почти все шкуры с головами, проигрывателями и телевизорами переселились к нам в игровую комнату. Детей оттуда не выгнать. Особенно если приходил Коля-Коля. Нянечке, которой не нравился такой шабаш, я по секрету сказал, что из-за побегов заключенных из расположенного по соседству лагеря этот милиционер присматривает и за нами. Та понимающе кивнула и присмирела навеки.
Я пригласил нашего милиционера порыбачить на дальних озерах. Он отправился, с полчаса помахал удочкой, затем принялся обыскивать ближнюю тайгу. По каким-то непонятным мне приметам находил рыбацкие утайки и демонстрировал мне то спрятанные кем-то удочку, то чайник, а то и целую печку. С трубой и задвижкой. Все оставлял на прежних местах, а вот огромный медвежий капкан, откованный лет сто тому назад, притащил в детский санаторий. Пружина у капкана до того слабая, что не смогла бы удержать даже зайца. Это и нравилось. Если насторожить, хватает совсем не больно, и не было мальчишки, который не попробовал сунуть в этот капкан ногу. Настораживали и на меня с Переверзевым, а уж восторга было, когда попались в капкан оба сразу.
Радовалась Коле-Коле и наша бухгалтерия. Раньше в санатории были вечные проблемы с доставкой зарплаты. Банк-то в сотне километров, и за деньгами пошлешь не всякого. Теперь у кассира Наташи и шофер, и охранник – лучше не придумаешь. Кое-что участковому за работу, конечно, приплачивали, но, наверное, не много. Дело-то неправое. Никакой подработки милиционерам не разрешалось, а Наташа рассказывала, что половину зарплаты он перечисляет детям погибшего в Афгане командира. Из-за подработок беда и случилась.
Не все знают, что в прежние времена заработки на Колыме были такими, что некоторые отправлялись за получкой с наволочкой. Иначе не унести. Более всего доходами славились старатели, и всяких историй, как их грабили по пути к родному дому, не сосчитать. Ведь легенда о том, что нельзя убежать из колымских лагерей, была всего лишь легендой. На самом деле беглых уголовников болталось везде так много, что охотникам за их отстрел платили премию. Лично мне председатель одного из чукотских исполкомов жаловался, что приходилось выплачивать охотникам за каждого подстреленного зэка больше, чем американскому ковбою за скальп индейца.
Конечно, сегодня беглых зэков не так много, зато увеличилось число людей, занятых контрабандой золота. И на Колыме, и в Якутии, и на Амуре созданы воровские кланы «Ингушзолота». Перекупают драгоценный металл у старателей и вывозят на материк в специальных поясах, контейнерах, просто ручной клади. Везут на самолетах, пароходах и даже оленьих упряжках.
Понятно, сами старатели со своими заработками в одиночку не ездят, некоторые для сопровождения нанимают милиционера. Наш поселок не так далеко от золотых приисков, пару раз обращались и к Коле-Коле. Работы не много. Утром выехал, сопроводил удачливого добытчика до аэропорта или банка и к ночи уже дома.
Нынешние золотодобытчики сильно отличаются от старателей Клондайка и прочих искателей фарта. Там-то немытые, бородатые, малограмотные мужики, а у нас в работающей неподалеку старательской артели из двадцати двух человек четырнадцать с высшим образованием!
Вот такой старатель в кабину Коли-Коли с набитым доверху портфелем и забрался. Представился Валерой, сел на переднее сиденье и сразу же вручил оплату за проезд. Ни больше ни меньше, как и положено в таких случаях. О чем они разговаривали в дороге – никому не известно. Люди видели, как вместе обедали в придорожной столовой, затем дружненько заливали бензин на заправке. Вот, пожалуй, и все.
Где и на чем прокололся Валера, угадать трудно. То ли Коля-Коля заметил, что портфель его пассажира заполнен не деньгами, а золотым песком, то ли просто поймал на враках. Старатель-то никогда не скажет: заработал, а отмазался. В его разговоре то и дело звучат слова «значки», «копыши», «шурфы», «сундуки», «хвосты». Даже золото у него – всего лишь золото, а не рыжье, как принято в уголовном мире. Но то, что наш участковый проколол курьера, сомнения у людей не вызывает. Вот вместо того чтобы ехать прямо к аэропорту, повернул к милиции. Наверное, этот маневр не устраивал Валеру, он выхватил пистолет и выстрелил. Пуля пробила шею Коли-Коли и застряла в спинке сиденья, а сам участковый захрипел и забился в конвульсиях. Проходящая неподалеку женщина видела, как на повороте машина вдруг ткнулась в бордюр и заглохла. Из машины выскочил высокий мужчина, пересадил «пьяного» милиционера на заднее сиденье, сел за руль и погнал в сторону соседнего поселка…
Коля-Коля не умирал уже часов пять. Сидел привязанный к спинке стула, глядел в угол комнаты и молчал. Говорить то ли не мог, то ли не хотел. Валера расположился против него и, молитвенно сложив ладони, упрашивал:
– Ну, умирай, мент, скорее! Умирай, прошу тебя…
В соседней комнате Валерины подельники держали совет, как выбраться из создавшегося положения. Этот кретин прикатил с подстреленным милиционером прямо под окно. Предлагает добить. А куда потом труп?
Решили: нужно сработать под самострел. Пока ночь, гнать машину прямо в наш поселок. Участковый живет один. Занести в квартиру, положить в постель и придушить подушкой. Рядом положить его же пистолет. Погрузили Колю-Колю и на двух машинах погнали по трассе. Ночь, встречных машин почти нет. И вдруг прямо у поворота к нашему поселку – целая колонна. Легковые, грузовики. Милицейская тоже мигает фонарем. То ли авария, то ли камнепад. Здесь сильный прижим, завал могут устроить даже снежные бараны.
Развернулись, отъехали километров десять и решили больше не рисковать. Вывели Колю-Колю из машины, хотели добивать в спину, а тот вдруг повернулся и требовательно так:
– В лицо, суки, стреляйте!
Те выстрелили, оттащили подальше от трассы и забросали ветками кедрового стланика. Машину спустили в ущелье.
Убивец нашли быстро. Наверное, те, которые искали, тоже не зря по четыре года учились ловить преступников.
Хоронили Колю-Колю без особого почета. В газете даже появилась статья, что был связан с этими бандитами. А убили, мол, Колю-Колю лишь потому, что один из бандюков игрался с пистолетом и нечаянно нажал курок. Но мы-то знали, как было на самом деле. Наша хозгруппа, в которой работали бывшие уголовники, да и сама зона, где убившие Колю бандиты отбывали наказание, выведали все до капельки. Особенно возмущалась наветами на участкового кассирша Наташа, у которой он несколько раз занимал деньги, чтобы купить детдомовцам игрушки. А уж она-то считать умеет!
Еще помню, на поминках одна из воспитательниц рассказала, как самый маленький в ее группе детдомовец Женя Шатков, которого участковый часто катал на машине и даже подарил милицейскую фуражку, не хотел отпускать Колю-Колю в последнюю поездку. Висел на брюках, пускал сопли и орал как резаный. Чувствовал его смерть, что ли? Дети-то до семи лет ангелы. А ангелам ведомо куда больше, чем нам с вами.
…Вот написал историю Коли-Коли и вспомнил петушка белой куропатки. Она-то линяет, лишь только начнет откладывать яички. Когда вывела цыплят, уже серая-серехонькая. Снег давно растаял, ни ее, ни цыплят в траве не разглядеть. Но их папа так и остается белым. Сидит на самом виду, орет на весь мир и приманивает хищников. Бежит, к примеру, лисица мимо куропачьего выводка, схватила куропача и наелась. Птичку, конечно, жалко, зато цыплята живы и здоровы. Растут, радуются солнышку. А мы после этого говорим…
ВЕДУН
Последняя электричка. Пассажиров всего ничего. Да и чему удивляться? Зима. Ни туристов, ни дачников. Летом здесь не продохнуть, а сейчас выбирай любую полку, устраивайся удобнее и в полудреме ожидай свою остановку.
В самой середине вагона тесной группой сидят милиционер, две женщины и трое подростков. Вернее, двое мальчишек и девочка. Взрослые по краям, а эти у окон. Картина, знакомая до боли. Точно так этапировали меня в далекие послевоенные годы, когда беспризорничал по поездам и вокзалам в поисках какой-нибудь поживы. Только тогда меня сопровождали в детскую комнату милиции, чтобы устроить маленький допрос, пропарить вшей, накормить и выдать билет до родной хаты. Случалось, давали по шее. Но не часто и не очень больно. Да, откровенно говоря, и было за что.
А этих возвращают в коррекционную школу. Коррекция – значит, что-нибудь исправляют. Сегодня это в большой моде. Можно с помощью силикона сделать похожими на вареники губы, необъятными груди, менее кривыми ноги и даже более умными мозги. Хотя начинка из грудей и губ может вытечь, ноги свести в дугу, на эти операции целые очереди. Даже афоризм придумали: «У женщины должны быть красивыми ноги. Хотя бы одна!» Главное, тонкогубый, плоскогрудый и кривоногий народ готов платить за коррекцию любые деньги. А вот на совершенно бесплатный ремонт мозгов никаких очередей, и пациентов доставляют под конвоем.
Я встречаю эту компанию не первый раз. Люблю садиться во второй вагон, они тоже, вот и встречаемся. Недели две тому назад девочки не было, а мальчишек сопровождала одна женщина. Паренек, который постарше, молчал, а младший матерился. Правда, негромко и шепеляво, но, если вслушаться, разобрать можно. Из десяти слов девять отборных матов. Сыплет и сыплет. Наверное, случайно что-то ляпнул, а эти, которые корректируют, при установке на нехорошие слова что-то напутали. Теперь матерщина льется из бедного мальчишки, словно силикон из прохудившейся сиськи.
На полпути к моему городку дети и их сопровождающие оставляют электричку, их встречает машина и увозит в дальний поселок, где ни папы, ни мамы и каждый шаг на контроле.
Все равно эти мальчишки молодцы! Хотя как-то, но сопротивляются. Если живущему в семье ребенку захочется сладенького, попросит маму или папу, те и купят. А в интернате, понятно, меню. Ешь что дают! Но пацанам хочется лимонаду, мороженого, шоколадных конфет. Да не немножко, а чтобы гудел живот. Вот, улучив момент, сбегают, добираются до электрички, «зайцами» катят до Питера, а там прямиком в супермаркет. Затерялись среди покупателей, наполнили корзинки всякой вкуснятиной, спрятались за контейнеры и употребляют, не доходя до кассы. Их, конечно, ловят. Сегодня везде камеры, да еще и младший не столько ест, сколько матерится. Вот хватают за шкирку и отбирают что не успели употребить, а самих сдают в милицию. Бывает, и не сдают, а пряники с конфетами оставляют в карманах. Однажды подарили начатую банку варенья…
Я тоже в детстве был не тем, кто терпит и голод, и контролеров, но мне не дарили, а сам взять не моги. Магазины-то были устроены совсем иначе. Но вот проникать на продуктовые базы случалось. Особенно если туда подавали целый состав с картошкой или другой продукцией. При вокзалах для нашего брата держали ночлежки из списанных вагонов. Нас можно было поднять среди ночи, заставить очистить перрон от снега, выкопать яму для умершего пассажира или выручить базу. Мы, конечно, старались и, само собой, при случае подворовывали. У меня для этого была очень удобная сумка от лошадиного противогаза. Во время войны наши летчики разбомбили поезд с немецкими кавалеристами. Мы с сестрами добра и натащили. Седла и всякую сбрую мама сдала в колхоз, а сумки от противогазов пригодились вместо портфелей. Я такой портфель картошкой и набивал. Получалось полное ведро. Еще в лошадином портфеле привозил из Бердянска хамсу, из Архангельска – треску, из Красноярска – кедровые орешки.
…По нынешним временам мне нужно было сделать коррекцию от бродяжничества, но интересно не это. Недавно ученые доказали, что муравей, который за три похода не принес ни одной добычи, съедается своими сотоварищами. Поэтому, мол, и старается. Брехня! Тысячу раз брехня! У нас в украинском селе было немало пробивных пацанов, но до Сибири добирался один я. И все, кто не умер от голода, жили дома возле мамы и папы. О поездке в уссурийскую тайгу, где я заработал денег на самую дорогую корову, не могло быть и речи. В то же время я мог сколько угодно раз вернуться из своих походов пустым, никто не попрекнул бы и словом. А эти – съедать!
Конечно, в моем поведении находили немало странностей, многие пророчили неважное будущее. Кажется, так у Некрасова: «Ему судьба готовила путь славный, имя громкое: чахотку и Сибирь». Их понять можно. То меня доставляют под надзором милиции, то приходит за каким-то делом участковый, то приносят повестку на суд за браконьерство. Главное, возвратившись из уссурийской тайги, я, вместо того чтобы ходить в школу да играть с пацанами в «чижика», вдруг объявил себя писателем и принялся издавать рукописные книжки. Сегодня в нашем городке пятьдесят взрослых мужчин и женщин считают себя писателями, и никто им пальцем у головы не крутит. Но мне-то было! Особо сердобольные даже сочувствовали родителям. То, что в нашей семье было девять голодных ртов, а Аллочка уже умерла от истощения, их заботило почему-то меньше.
К счастью, в селе уже был свой дурачок по имени Толик, а двух дурачков в одном селе не бывает. Вот ко мне эта кличка и не приклеилась.
Толик намного старше меня, длинный, пучеглазый, с вечно слюнявым ртом. Мама до сих пор удивляется, почему его не расстреляли во время войны? Во-первых, уже лежал в психушке, а немцы таких уничтожали, во-вторых, как его ни закрывали, убегал на станцию и искал ушедшего на фронт отца. Спрашивал всех подряд: железнодорожников, полицаев, даже немцев. Если полицай или немец ему грубил, Толик внимательно всматривался в обидчика и сообщал, что его скоро убьют или ранят. При том говорил так, словно с большим трудом считывает с классной доски или книжки. Это почему-то всех пугало. Полицаи ругались и даже дрались, а немцы, хотя не понимали по-нашему ни слова, почему-то старались Толика задобрить. Угощали галетами, шоколадкой, один даже подарил губную гармошку.
Когда прогнали немцев, почти сразу пришла похоронка на отца. К тому времени Толик научился играть на губной гармошке, но играл не для людей, а для собак. Увидит дворнягу и принимается исполнять какую-то заунывную музыку. Это действовало на собаку, она садилась рядом с Толиком и начинала подвывать. Скоро к ней присоединялась вторая, затем третья и четвертая. Когда подвывала одна, еще ничего. Даже весело. Но если целая стая – хоть беги из села.
Многие посмеивались над великовозрастным дурачком и даже советовали тетке Клаве сдать снова в психушку, но здесь случились события, которые заставили задуматься даже нашу маму. Жил в соседнем селе парень Сергей Гужва. Говорили, раньше был в банде, которая грабила поезда, даже сидел в тюрьме, потом присмирел, устроился скотником на ферму, и ничего такого за ним не замечали. Однажды сидит вместе со скотниками в молочке, где обычно хранились фляги с молоком, вдруг заходит Толик со своей гармошкой. Встал перед Гужвой, внимательно всмотрелся и говорит:
– Ты скоро умрешь. Очень кого-то обидел, и он уже поставил свечку за твой упокой.
И снова голос какой-то деревянный, словно считывал с классной доски или книжки. Вот так сказал и вышел.
Скотники – что? А ничего. Самим стало страшно. Только потом уже вспомнили, что обычно коровы при появлении чужого человека начинают волноваться, шлепать лепехами и даже тревожно мычать. А здесь лежат, жуют жвачку, а те, которые стоят рядом с проходом, даже тянутся лизнуть. Хотя на этой ферме он появился первый раз в жизни.
Гужва тоже без всякой паники. Мало ли что взбредет дураку в голову? Еще целую неделю проработал на ферме, потом возвратился домой, присел на завалинке передохнуть да так сидя и умер.
Сразу пошли всякие разговоры, мол, этот ведьмак накаркал Гужве погибель. Он и на станции тогда всем говорил: того убьют, того ранят. Откуда мог такое знать? Если бы все по-честному, давно бы сидел в Кремле у Сталина и предупреждал, куда наступать, а куда не стоит. А на плохое и дурак накаркать может. Тем более война!
Но буквально через неделю то ли само провидение, то ли ангел-хранитель пришли Толику на выручку. В паре километров от нашего села небольшой пруд, возле которого растут высоченные груши, с веток которых мы любили прыгать в воду. За прудом – заросли терновника, в котором водились волки. После войны их расплодилось видимо-невидимо. Даже нападали на людей. Зимой, конечно. Летом им хватало мышей и сусликов, да еще дрофичей. Перья у этих крупных птиц не смазываются жиром, как у утки, вот после дождя летать не получается. Волки с лисицами на них и охотятся. Однажды нам с братом Эдиком повезло отобрать такого дрофича у лисицы.
Но сейчас разговор не об этом. Дядька Карпо, который охотился и на дрофичей, и на лисиц, и на волков, в шутку посоветовал Толику устроить концерт волкам. Эти звери любят петь хором куда больше собак. Сейчас у волков молодые щенки, если поймать за шкирку и сдать в колхозную контору, матери запишут десять трудодней. Будет премия и из района. Осталось подобрать волчью музыку, и дело в шляпе.
Толику идея понравилась. Правда, идти одному неинтересно. В то время у многих пацанов тоже завелись губные гармошки, у некоторых даже получалось подыгрывать собакам. Конечно, не так, как возле Толика, но поскуливали. Вот трех пацанят с собою и прихватил. С мешками, конечно. Пришли к терновникам. Играли, играли – ничего не получается. То ли не удавалось подобрать волчью мелодию, то ли звери вообще переселились за зеленую казарму, где глубокая балка, а этих терновников немерено.
Пацанята убежали купаться, а Толик все пиликает. Вдруг гроза. Не понять, откуда и взялась. Здесь еще солнце, а соседнее село уже спряталось за дождем и молниями. Толику это без внимания. Пиликает на все лады да высматривает волчат. А мальчишки накупались, развели под грушей костер и принялись печь выдранных из нор раков. А тот вдруг перестал играть, со всех ног бросился к пацанам и кричит, чтобы убегали из-под груши. Те ничего не поймут. Он же налетел, схватил двух под мышки, третьего подтолкнул коленями, и через какое-то время все были метрах в тридцати от груши. В следующее мгновение сверкнула молния, громыхнуло так, что заложило уши, и расколовшаяся надвое груша заполыхала, словно свеча.
Вот и вся история с географией. Только не нужно думать, что Толик за спасение мальчиков получил награду. Как бы не так! За то, что втравил детей в охоту на волчат, мать одного из мальчишек расцарапала Толику лицо и выдрала волосы. Остальные требовали вернуть сгоревшие под грушей рубашки и штаны. Женщин можно понять. Недавно закончилась война, каждый лоскуток на вес золота, а этот оставил детей голешенькими. Но все равно многие сельчане Толика зауважали. Хотя, может, и по другому поводу. Когда пришла похоронка на его отца, мать и старшие сестры ревели белугами, а Толик ничего. Пиликает на гармошке да дразнит собак. Дурачок, что возьмешь? И вдруг, когда уже давно закончилась война, однажды утром Толик ни с того ни с сего заявляет матери, что нужно идти на станцию встречать отца. Сестры – в караул. И так из-за этого дурака женихи обходят стороной, теперь новая болячка. Собрались и ушли вместе с матерью на ферму.
Как часто ошибаются наши родные, особенно мамы, в оценке поступков своих детей. То ли боятся вспугнуть удачу, то ли и на самом деле: лицом к лицу лица не увидать. Мать Толика пришла на ферму и, как о большой беде, рассказала давней подружке тетке Марфе о новом чудачестве сына. Мол, когда на отца пришла похоронка, даже не смахнул слезинки, а сейчас побежал встречать. Все, кто выжил и мог вернуться, давно дома. Даже из госпиталей приехали…
Тетка Марфа даже не дослушала:
– С ума сошла! Да ведь Толик у тебя ведун! И с Гужвой все предсказал заранее, да и с мальчишками. Кто мог знать, куда ударит молния? Никто! А он – без сомнения. Теперь такое же и с отцом. Кидай все и беги встречать!
И побежала, и встретила, а потом мы всем селом ходили слушать, как попал в окружение, затем в плен, был отправлен во Францию, работал на военном заводе. При первом же случае бежал и воевал вместе с «маки», так называли французских партизан. Они даже наградили его орденом, как у Суворова! Мы смотрели в книжке. Дядьке Сереге предлагали остаться во Франции. Говорили, что дома посадят в тюрьму. Все равно рвался к семье. Полгода продержали под следствием, но обошлось. Даже орден вернули.
К тому, что многие считают Толика дурачком, дядька Серега отнесся скептически:
– Какой же он дурак, если не бьется о стенку головой? Его женить нужно, сразу вся дурь вылетит.
И женил на тетке с двумя пацанами. Наша мама говорила, что перед этим Серега имел с нею секретный разговор. Он-то во Франции не монашествовал и кое-чему у тамошних мамзелей научился. Губную гармошку наказал подарить детям, а на то место купил сыну настоящий аккордеон, чтобы играть на свадьбах. Глядишь какую копейку заработает.
Осталось рассказать, что Толику быть женатым понравилось. Хотя глаза оставались по-прежнему выпученными, но слюни пускал куда меньше. Да и так мужик мужиком. И корову держал, и огород, и на работе не хуже других. Он быстро освоил аккордеон, играл на свадьбах и ходил вместе с сыновьями к терновнику вызывать волчат. Одного выманили, но ловить не стали. Толик чувствовал, что где-то рядом таятся взрослые волки и просто так волчонка в обиду не дадут…
Когда-то я подарил Толику свою рукописную книжечку. Он хотя с трудом, но прочитал и говорит:
– Чего это родители на тебя нападают? Вот увидишь, они еще будут тобой гордиться…
Они и гордились, но признались в этом, лишь когда у меня вышла почти полумиллионным тиражом настоящая книга. Но сказать об этом Толику не могли. В то время папа и мама жили далеко от нашего села…
Вот и говорю: если бы тех мальчишек из электрички да в многодетную семью с хорошим папой, да еще в школу, где больше половины учителей мужики, никаких коррекционных интернатов для детей с нарушением психики и не потребовалось. В Японии и Швейцарии на десять педагогов приходится девять мужчин, в России немногим больше одного, а в интернате, где живут эти мальчишки, последнего дядьку выжили год тому назад. Теперь жалеют. Все равно как в сказке, в которой Змей Горыныч жалуется солдату на сиротскую долю:
– А где твои родители? – спрашивает солдат.
– Съел, погорячился, – признается Горыныч.
– Так ты сиротка?
– Круглая! – подтвердил змей и уронил слезу…
Не верьте этому гаду, не верьте и этим теткам. Я сам видел, с какой ненавистью зыркали они на сбежавших из коррекционного интерната мальчишек. Мол, бесятся с жиру, а ты гоняйся за ними по электричкам! А ведь это всего лишь очень несчастные дети, которым не хватает нашей любви.
ЯПОНА МАМА
Брехня! Тысячу раз брехня, что в минуту смертельной опасности перед человеком проносится вся его жизнь. За сорок лет охоты в колымской тайге было всего. И с медведями встречался, и тонул, и попадал в лавину, однажды сорвался со скалы, но ничего такого не проносилось. О том, что хочется жить, тоже не думалось. Думал о жене, детях и еще очень жалел, что даже не найдут труп, похоронить по-человечески. Помню, после медведей и скалы руки дрожали так, что полчаса не мог зажечь спичку. Вот, пожалуй, и все.
Неправ и поэт Некрасов, описывая сладостное состояние замерзающей Дарьи. Помните: «А Дарья стояла и стыла. В своём заколдованном сне». Я тоже замерзал и знаю, что это очень мучительное состояние – холодно и неуютно, но, чтобы клонило в сон, не было и намека.
Правда, об этом никому не признавался. Мало ли чего почудится с большого перепугу? У одних – одно, у других – другое. Когда мы отыскали попавшего в собственные капканы охотника из Магадана, тот в первую очередь попросил почесать спину, а вот замерзающий с поломанной ногой в охотничьей избушке Вася Селин, лишь его растормошили, поинтересовался, есть ли у нас водка?
Как же я был удивлен, когда японский самурай Кийоши, поскитавшись в тех же местах, где и я, слово в слово повторил мои мысли…
Нет, лучше сначала. До появления в Магадане пленных японцев – а привезли их к нам больше шести тысяч – этот город был почти сплошь деревянным. Архитектурой тоже не блистал. Наверное, не зря в переводе с эвенского «магадан» звучит примерно так: «куча дров». А если учесть, что наши портовики умудрились взорвать в местной бухте два огромных груженных взрывчаткой парохода и разнесли прибрежную часть города в пух и прах, дров там и на самом деле хватало.
Раздолбаев, приказавших в нарушение всех инструкций погрузить на пароходы вместе с тысячами тонн динамита и детонаторы, конечно же, судили как «врагов народа». Потом наши правозащитники объявили их «жертвами сталинских репрессий» и потребовали льгот.
Но разговор не об этом. Пленные самураи принялись перестраивать главную улицу Магадана в белокаменную, с башенками, барельефами и прочими наворотами.
Народ они исключительно дисциплинированный, к побегу не склонен, вот между делом ими все дырки и затыкали. То нужно расчистить дорогу, то напилить гору дров, то засолить рыбу. Для «нормальных» зэков необходимы конвой, собаки. А это мороки! Здесь же дай команду – и можешь забыть. Расчистят, напилят, засолят и строем без всякого конвоя, да еще с песней «Катюша», вернутся в барак. Со временем их стали использовать даже в урановом руднике «Бутугычаг», который в двухстах километрах от Магадана. Работа, кажись, самая смертная, но, когда пленным объявили, что скоро отправят в Японию, рады были остаться в радиоактивных штольнях на всю жизнь. Слишком уж тяжелая участь ожидала их дома. Ведь, отправляясь на войну, клялись победить или погибнуть. Погибнуть не успели, победить тем более: император Хирохито, чтобы не повторить судьбу Гитлера, поторопился подписать акт о капитуляции.
Ему-то нормально. Расписался в акте о капитуляции, сдал саблю, и, как поют в Одессе, «бабушка здорова, кушает компот». Тем, кто воевал против американцев, тоже терпимо. Они в джунглях. Спрятался на пальме и «ешь кокосы, ешь бананы».
Но вот тем, кто против русских, – «на сопках Маньчжурии» да «по диким степям Забайкалья», – кроме сусличьих нор, никакой утайки. У кого не хватило силы зарезаться или хотя бы застрелиться, в плен и попали.
Я откуда все так хорошо знаю? Скоро по приезде на Колыму подружился с самым настоящим шпионом Лёвой-Мюллером. Лёва окончил две разведшколы – немецкую и японскую. Много нашпионить не успел, но, будучи пойманным, заложил кого только знал и сел в колымских лагерях на двадцать пять лет. Вел себя нормально, работал старательно, да еще и проявил смекалку. На спор с начальником лагеря отковал из автомобильной рессоры пилу и за одну смену напилил четыре нормы лиственничных бревен. Ему присвоили звание стахановца, выпустили на свободу и дали комнату в нашем бараке.
Я работал в детском санатории, где поправляли здоровье дети аборигенов – чукчей, эвенов, коряков. От них и услышал о том, что в дальнем стойбище пасет оленей настоящий японец. Я не поверил. Коренные северяне и японцы на одно лицо. Помню, в детстве мы узкоглазого пацана дразнили монголом, хотя тот был самый настоящий хохол. Но мои воспитанники настаивали и даже привели доказательство. Мол, в их оленеводческом совхозе у каждого пастуха до тридцати личных оленей, но все пасутся вместе с совхозными. И что удивительно: волки, медведи и росомахи, которые нападают на оленей, всегда режут только совхозных бычков и важенок. Пастушьи же целые целехонькие, да еще и самые упитанные. Кто не дурак, сразу понимает, что к чему, но все нормально и все довольные. А этот японец своим оленям нацепил на уши маленькие сережки, и почти сразу волк зарезал у него молодую важенку. Теперь директор совхоза требует от пастухов, чтобы тоже наметили личных оленей, а они не желают. Говорят, так делать нельзя. Грех!
Еще мои воспитанники рассказывали, что этот японец ел мясо американского летчика. Американец бомбил японские села, его сбили, приготовили с особыми специями и съели. Я рассказал об этом Лёве Мюллеру, тот подтвердил. У японцев так принято – съедать побежденного врага. От этого у них прибавляется мужества. Я заинтересовался и при первой оказии отправился в гости к мужественному японцу. Прихватил и Лёву. Иначе как с этим людоедом разговаривать?
У моих воспитанников начались каникулы, вот мы и сопровождали их к родителям. Забрались в вертолет, летим. Дети прильнули к иллюминаторам, а Лёва учит меня разговаривать по-японски. Я-то, кроме «коси-ка, сука, сено!» и «коси-ка, сука, сам!», по-ихнему ни слова, а Лёва вколачивает:
– «Яххо!» – значит, «привет!», «до дес ка?» – «как твои дела?», «нан сай?» – «сколько тебе лет?»
Я расхохотался так, что заглушил вертолет.
– Тебя Лёва, наверное, для шпионской деятельности в детских садах готовили. У нас так только с двухлетними малышами разговаривают…
У аборигенов севера дети всегда на первом месте, поэтому, когда выбрались из вертолета, на нас с Лёвой почти никакого внимания. Те, значит, радуются своим отпрыскам, обнимаются, нюхаются (у аборигенов тереться носами заменяет поцелуи), а мы им без интереса. Но нам тоже без разницы, мы высматриваем отважного японца. У вертолетной площадки полно мужиков, все в одеждах из оленьих шкур, низкорослые, узкоглазые, небритые. Да и зачем бриться, если вместо бороды только редкие волоски? Наконец Лёва, что ни говори, а разведчик, по каким-то признакам вычислил иностранца, подошел и заговорил по-японски.
Бог мой! Что с тем мужиком случилось! В мгновенье ока посерел, скукожился, стал несчастным и жалким. Метаморфоза была настолько поразительной, что ее почувствовали даже дети. С большим трудом уже на русском и эвенском успокоили. Мол, никакие мы не милиционеры и прилетели совсем не затем, чтобы арестовать и отправить в Японию, а просто познакомиться.
До вечера угощались чаем, парной олениной и рыбьими головами. Здесь самый нерест, лососями буквально забит каждый ручеек. В это время аборигены употребляют в пищу одни рыбьи головы, остальное вместе с отборной икрой идет на корм чайкам.
Вечером японец Кийоши, которого здесь зовут просто Кеша, приготовил нам с Лёвой настоящую сауну. Накалил камней, прикрыл лапами кедрового стланика, большой палаткой и парил нас до седьмого пота. Лёву он почему-то считал большим начальником, все время кланялся и говорил учтивые слова, мне только улыбался.
В оленеводах японец Кеша уже давно. До этого был в плену, строил дома жителям Магадана, потом добывал в Бутугычаге урановую руду. Когда услышал, что пленных решили возвращать в Японию, ушел в сопки и бродил там целый год, ночевал в охотничьих избушках или рыболовецких станах, случалось, строил шалаши. Кусок напильника с кремнем, чтобы добывать огонь, у него был с собой. Имелся и самодельный нож. Остальное подбирал на брошенных стоянках. Встретив геологов или охотников, кланялся и говорил: «Рис давай! Спичка давай!» После пел «Катюшу» и танцевал «Калинку». Мужики принимали Кешу за чудаковатого аборигена, удивлялись, до чего красиво поет, и делились. Однажды даже подарили ружье. Вокруг полно медведей, а он – с голыми руками.
Конечно же, случалось и голодать. Однажды зимой провалился в разведочный шурф и спасся только тем, что целые сутки выковыривал ножом ступеньки. Время от времени, чтобы согреться, танцевал «Калинку». Выбравшись, побрел к заброшенному бараку, упал на полпути и почувствовал, что замерзает. Было холодно и больно, но спать не хотелось ни капельки. Пересилил себя, на четвереньках добрался до барака и растопил печку.
Там на него и наткнулись завернувшие на дымок оленеводы. Случалось, они принимали к себе беглых уголовников, а этого вообще признали своим. Работает старательно, в еде непривередлив, на водку не азартен. Когда пастухи перепьются, прячет карабины и следит за порядком. Самое для Лёвы любопытное, что уже на второй год женился на хохлушке Гале из фактории. В стойбище сколько угодно молодых эвенок, самая Кешина порода, а его потянуло к хохлушке.
А я не удивляюсь. Хохлы с японцами близкие народы. У нас самогон и сало, у них саке и сакура. Ведь похоже, да? И мы, и они воспеваем вишневые сады, карие очи и приятные разговоры. Красноречие хохлушек известно всему миру, а у них даже специальность такая есть «гейша» – девушка для приятной беседы.
У нас поем «стоит гора высокая», у них – священная гора Фудзияма. Даже раздолбайство одинаково – мы проморгали Чернобыль, они – Фукусиму.
Еще японцы славятся любовью к прекрасному. Собрать букет цветов у них икебана, выходные проводят не на шашлыках, а за любованием портретом начальника. Даже зарезаются красиво!
А Галя – настоящая красавица, и поет, и танцует. Раньше выступала в национальном ансамбле. Конечно, для этого ей пришлось заузить тушью глаза, а для стройности натянуть на голое тело расшитую бисером кукашку. Но порода взяла свое. Во время сольного пируэта кукашка лопнула, бисер брызнул по сторонам, и на свободу вырвалась Галина грудь. Публика неистовствовала до того восторженно, что пришлось объявить антракт…
Хотя Кеша облучен в рудниках до такой степени, что должен светиться, Галя одного за другим родила ему двух детей. Тарасика и Катю. Мальчика назвали по отцу Гали, девочку – по любимой Кешей «Катюше». Тарасик учился в интернате, сейчас пасет оленей. Катя как аборигенское дитя поступила в институт Герцена. Красавица редкостная. Еще маленькой танцевала и пела лучше всех в районе…
Еще мне запомнилось, как в стойбище завернул вездеход с лейтенантом и пятью солдатами. Неподалеку сопка, на которой их параболическая антенна, вот в гости и прикатили. Угостились олениной, выпили по кружке чая, повалялись на оленьих шкурах и распрощались.
– Хорошие у вас солдаты, только очень неважные, – вдруг сказал Кеша.
– Почему неважные? Одеты не по форме? – спросил я.
– Совсем строгости нет. Вместе с офицером едят, даже толкают его, а он только смеется. Так само и с пленными было. Если бы мы победили, всем врагам, которые в нас стреляли, отрубили бы головы. Их женам тоже отрубили. Даже детей убили. Врага жалеть не надо. От жалости сердце становится как тряпка.
– Ведь ты же тоже в наших стрелял. Значит, тебя тоже убить надо?
– Конечно, надо! Я хорошо стрелял, многих американцев убил, потом монголов, русских убил. Две медали за храбрость получил. Если бы к американцам в плен попал, они обязательно бы расстреляли, а вы даже кормили лучше, чем русских. Из-за этого мы американцев уважаем, а русских совсем не уважаем…
Года через три после встречи с японцем Кешей у меня случился конфуз: принял в почетные пионеры японскую шпионку.
Вся жизнь аборигенов севера проходит рядом с огнем. Проснувшись в яранге, прежде всего разводишь огонь и поддерживаешь до позднего вечера. С огнем разговариваешь, словно с живым существом, делишься едой и просишь защиты.
Понятно, всего этого в интернате нет, поэтому при первой возможности устраиваю своим воспитанникам пионерский костер. А какой он без гостей? Рядом – курорт, куда едут на лечение аборигены со всей тундры. Приглашаем их на пионерский костер, дарим нарисованные детьми картинки, поем песни, танцуем. И, конечно же, принимаем гостей в почетные пионеры. У меня для этого целая стопка пионерских галстуков. Потом в тундре об этом только и разговоров.
И вот однажды, перед тем как повязать галстук очередной гостье, спрашиваю, как зовут? Она:
– Акико. Спасибо!
И кланяется, как когда-то Лёве Мюллеру кланялся японец Кеша.
Я – без внимания. Акико так Акико. Здесь разных Нинбитов, Чумбок, Ктатов сколько угодно. Почему не быть и Акико?
Но что-то все же насторожило. Спрашиваю в учительской, не знают ли, кто такая Акико, которую я вчера принял в почетные пионеры? А учителя в хохот:
– Да это же наша бабушка Акико Муроками! Еще япона мама называется. Самая настоящая японская шпионка. В Хасыне живет. Попалась, отсидела срок в женском лагере, но в Японию возвращаться боится. Там провалов не прощают.
– Разве шпионов не расстреливали?
– А зачем? Если новый попадется, с кем делать очную ставку? Твоего Лёву два раза во Владивосток для этого возили. Япону маму, наверно, тоже. Говорят, у нее в одежде булавку с ядом нашли. А может, и брешут, сама-то не скажет…
Пожив на Колыме, я стал замечать одну особенность. Прилетев в Москву из Колымы, удивляешься настоящей зелени, яркой, сочной, бушующей. Да и чему удивляться: «Колыма-Колыма, дивная планета. Двенадцать месяцев – зима, остальное – лето». На вечной мерзлоте-то не разгуляешься.
Но еще больше удивляешься тому, что после возвращения в магаданский аэропорт видишь настоящих красавиц. Говорю об этом магаданским мужикам, те такого же мнения: «Наши женщины куда красивее!»
Когда-то меня поразили слова Блока: «Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы! С раскосыми и жадными очами!» Получается, как раз скифская кровь и сделала славянок самыми красивыми в мире. А на Колыме к ней добавилась японская, корейская, китайская. Да и аборигены не дремали. Молодые эвенки, гляди, какие куклы! А вы поете: «Всю-то я вселенную проехал, нигде милой не нашел».
На Колыму-то нужно было заглянуть! На Колыму!
САМОЕ СЧАСТЛИВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
В конце декабря наступают такие морозы, что не выдерживают даже привычные ко всему звери. Белки собираются по восемь-десять в одно гнездо, сбиваются в клубок и засыпают на целую неделю. Соболи прячутся в дупла, лоси в снежные ямы, зайцы убегают на самые высокие горы, где воздух суше. Известно, сухой воздух теплее сырого. Заяц как будто и не шибко ученый, а разбирается!
Охотнику в такую погоду тоскливо. Зверь совсем не ходит, сидеть без дела в охотничьей избушке тоже не хочется, а дома скоро Новый год. Дети приготовят для меня костюм Деда Мороза, будут до полуночи выглядывать, а я здесь.
Целый день маялся в сомнениях, на второй собрался – и к трассе. Хоть до нее сто восемьдесят километров, два крутых перевала и такое ущелье – черт ногу сломит, но глаза боятся, а руки, вернее ноги, делают. Конечно, почти три дня без сна, приключения на каждом шагу, – то лавину стронул, то едва не сорвался со снежного козырька, то влетел в наледь. Последнее страшнее всего. Ручей в ущелье промерз до самого дна, но родники-то бьют в любую погоду. Вода вырвалась и течет прямо по льду. Поэтому и наледь. Плохо лишь, что не всегда заметно, где она гуляет.
Только что катил по снежным сугробам, вдруг очередной сугроб разъехался, словно кисель, и я по колени в воде. В пятидесятиградусный мороз! Тотчас на лыжах накипели глыбы льда, а каждый валенок уже не валенок, а испанский сапог, с помощью которого иезуиты устраивали пытки.
Хорошо, на берегу сухая лиственница. Быстро срубил, развел костер, разделся, сушусь, греюсь. Присмотрелся, а на бугорке десятка два молодых лиственничек обломано. Если бы это были осинки, подумал бы на лося, он осиновые ветки уважает больше всего. А так – работа медведя. Перед тем как лечь в берлогу, выстилает пол молодыми лиственничками. Говорят, их смолистый запах отгоняет мышей. Если медведь поленится и ляжет лишь бы как, весной вылезет совсем обстриженным. А этот ничего. Старательный. Лежит где-то рядом, слушает, как колю дрова, гремлю котелком, звякаю кружкой. Мне, конечно, страшновато, но не очень. В такой мороз его из берлоги колом не выгонишь.
Обсушился, подремал у костра и снова в поход. На прощанье крикнул медведю: «Бывай, косолапый! Извини за беспокойство!» Вокруг тишина, только деревья потрескивают от мороза да где-то под снегом погулькивает вода…
К трассе вышел в полной темноте. Закопал лыжи в снег – и голосовать. На севере закон – как бы шофер ни торопился, а поднимешь руку – остановится сразу.
Часа два еду в теплой кабине, рассказываю шоферу о своих приключениях. Тот слушает, удивляется, затем принимается рассказывать, что в прошлую поездку заночевал на якутской трассе и колеса грузовика до того замерзли, что две шины рассыпались, словно стеклянные. В тех краях сейчас морозы сильнее наших.
Наконец поселок Поворотный. Здесь развилка. Одна дорога – в Якутию, другая – к моему поселку. Домой всего тридцать километров, но ни автобусов, ни попутных машин в это время не поймать. Хорошо, рядом шоферская гостиница. Придется ночевать. А домой хочется-а!
Во дворе гостиницы десятка два грузовиков. Эти на отдыхе. Если шофер больше шести часов за рулем, хочет не хочет – должен поспать. Поужинает, примет душ и до утра на боковую. Моторы грузовиков не выключаются, а дежурный следит за их работой. Вот выбрался из кабины, идет навстречу. Здороваемся, словно старые знакомые, разговариваем. Сообщаю, что охотился за Манычанскими перевалами и решил вырваться на новогодние праздники домой. Он разводит руками. В сторону моего поселка идут два груженных углем КамАЗа, но придется ждать утра. Нужно зайти в диспетчерскую и записаться пассажиром, потом уже в гостиницу.
В сопровождении дежурного захожу в диспетчерскую, там – свет! После полумрака в моей избушке да путешествия почти на ощупь аж глаза режет. За стеклянной перегородкой дежурная. Красивая, нарядная, прическа – волной. На мне валенки, ватные штаны, прогоревшая у костра куртка. Главное, зарос, как дикобраз, и последний раз умывался три дня тому назад. Бомж – не иначе. Все равно подхожу к окошку и прошу записать пассажиром. Дежурная какое-то время с удивлением рассматривает меня, спрашивает фамилию, записывает и между делом предупреждает, что раньше восьми утра ничего в мою сторону не будет. Я согласно киваю, собираюсь уйти и вдруг замечаю телефон. В тайге-то почти четыре месяца, передал через оленеводов домой несколько писем, но получали ли их, не знаю. Говорю об этом дежурной, та с раздражением выслушивает, телефон-то служебный, но набирает номер, передает трубку.
Я еще не сказал и слова, а трубка уже взорвалась голосами детей. Кричат, визжат от восторга, перебивают друг дружку. Только и слышу: «Мама, папа звонит! Папа! Папа! Папочка едет!»
– Ваши? – спрашивает удивленная женщина. – Сколько их?
– Трое. Две дочери и сын. Соскучились. Я же говорю: почти четыре месяца в тайге.
Дежурная подняла голову, мне показалось, глаза у нее заблестели от слез, а в голосе появилась какая-то хрипотца.
– Гриша, бегом разбуди своих угольщиков, в поселке отоспятся. Пусть забирают этого охотника и едут. Там дети папы не дождутся.
Затем уже ко мне:
– Чаю хотите? Садитесь здесь, сейчас налью. Как-то хоть звать их? Ну и народ! Как же они узнали, что вы звоните? Еще рот не открыл, а уже: «Папа звонит!»…
Через полчаса сижу в кабине углевоза, смотрю на бегущую дорогу, перебираю в голове все случившиеся со мной приключения и решаю, что последнее самое счастливое.
ГАННА БОСА НА ЧУКОТКЕ
Моя мама, если выпьет самую капельку, принимается петь. Голос у нее сильный, красивый. Цыгане, которые стояли табором за балкой, с гордостью говорили: «Наша поет! Полтавчанка!»
Папа под хмельком любит поговорить, дед Губарь тоже. Гонят самогон, по чуть-чуть дегустируют, и разговоров – настоящая тебе Госдума! Петька Босый лишь опорожнит стакан – принимается искать любовь. Вот уж для кого не бывает некрасивых женщин, а бывает мало водки. Рассказывали, он даже за бабой Палажкой гонялся. А уж древнее ее только Тутанхамон. На этой почве Петькина супруга Ганна Боса впадает в ревность и, хоть трезвая, хоть пьяная, отправляется искать соперницу. Найдет и расцарапает морду. Какая только красавица, после того как улыбнулась Петьке, с испорченной физией по селу не ходила? Кино и немцы!
Аборигены севера в нетрезвом состоянии устраивают гонки на оленях. Оленей нет – можно просто бороться. Бороться не с кем – тогда сами с собой. Даже концертный номер такой есть. «Борьба нанайских мальчиков» называется. Пыхтит пара борцов на сцене, упирается. То один прижимает, то второй. Потом вдруг встали, а там всего один нанаец!
Аборигенки, как и Петька, чуть захмелели, тоже ищут любви. Только не такой страстной, которую показали в кино «Кукушка». Страсть, которую по воле киношников продемонстрировала саамка Анни, может быть только у героев колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса. Северянки в этом деле тихие, словно мышки. Подойдет и виновато так: «У меня в дусе пожар. Его ната тусить. Меня ната селовать».
Представляете, какое коварство? Они ведь тысячи лет об этом деле, в смысле «селовать», даже не мыслили. Нюхались, терлись носами – это было, но целоваться – ни в одном глазу! А хохлы понаехали и научили.
Почему именно хохлы, а не другие люди, подумайте сами. Ведь говорим же мы «в России», «в Белоруссии» или «в Америке», но «на Украине», «на Полтавщине», «на Кубани», а дальше уже как бы само собой: «на Дальнем Востоке», «на Камчатке», «на Колыме», «на Чукотке», «на Сахалине». Попробуйте сказать иначе – не вяжется! Значит, наша работа! Да и вообще, нашего брата на северах куда больше, чем самих аборигенов. Помню, съехались заслуженные оленеводы на конференцию. В президиуме – Ильченко, Харченко, Спиненко, Дорошенко, Михальчук, Дуднык. Общую картину портит только поляк Мачульский. Так они же всегда к нам клеились.
Интеграция продолжается. В одном из моментов этого процесса виноват я. Чтобы не быть голословным, расскажу подробнее. Событие малоаппетитное, но вы уж меня простите. Из песни слов не выбрасывают.
Как и подобает праправнуку гетмана Украины Олефира Голуба, погибшего в восьмидесятилетнем возрасте в походе на турок, я тоже, едва поднявшись на ноги, отправился в поход. Шел-шел да и поставил свой курень среди яранг колымских и чукотских аборигенов. Рыбачил, охотился, пас оленей. И еще учительствовал.
Кочевал от стойбища к стойбищу и учил уму-разуму тамошних детишек. Через три года вернулся на Украину, по колхозным меркам, настоящий мэн. При костюме, при часах, при кудрявых волосах! Фотографии тоже привез. То восседаю на оленьей упряжке, то с ружьем на медведе, одна – даже на ките. Чукчи убили, вытащили трактором на берег – я и запечатлелся.
Петька тетки Ганны лишь увидел – сразу: «Тоже хочу на ките с медведем! Еду!» Нашего соседа как раз за пьянку поперли из скотников, да еще тетка Ганна накрыла с очередной пассией. Самый момент обрывать концы. Подрядился сопровождать выращенных для пограничников коней и добрался до самой Находки. Оттуда уже палубным матросом в столицу колымского края Магадан. Прибился к бичам, перезимовал на автовокзале, по весне приняли разнорабочим в геологическую экспедицию.
У геологов сухой закон, работа до седьмого пота и никаких женщин. Вернее, женщины встречались, но лучше бы их при сухом законе не встречать. Из-за наколок. Мужики, особенно из преступного мира, любят расписывать свою биографию на груди, спине и даже срамных местах. Еще издали видно, где и за что сидел, сколько дали, собирается ли забыть родную маму. А вот чукчи выкалывают необходимую информацию на щеках невест. Если кто разбирается, сразу скажет, что ее дедушка – настоящий чукотский князец, а папа – совхозный бригадир, народный депутат и даже где его найти, если приспичит жениться. Получается, не невеста, а бандероль с объявленной ценностью.
Однажды по пути к золотоносному полигону Петька заглянул в чукотское стойбище и встретил такую Чейвынэ. Не очень молодая, вся в наколках и кокетничает. Тамошние девушки для удобства жизни сбрасывают одежду-керкер с левого плеча, и грудь получает полную свободу. Как говорят у нас в Гуляй Поле: «Целуй меня! Я с поезда!» Но ничего хорошего не вышло. Петька лишь перевел взгляд на синюю от наколок физиономию искусительницы, сразу вспомнил вождя краснокожих Чингачгука и понял, что так много водки ему не выпить.
Сначала думал об этом случае с улыбкой, но потом и с сожалением. Мол, что ему мешало попробовать эту грудь на упругость? В яранге не так и светло, да и глаза можно бы прикрыть. Не удивительно, что под конец сезона думал о Чейвынэ почти с любовью и даже тревожился, не откочует ли она к Ледовитому океану следом за оленями своего папы?
Не откочевала. Хотя писем не писал и даже не обещал проведать, но она каким-то образом знала о его желаниях и сниматься с места даже не помыслила. Достаточно было Петьке подойти к яранге и сказать: «Етты! Я пришел!», как полог распахнулся и Чейвынэ оказалась в объятиях!
Ночью все кошки серы, а если ночь еще и полярная, никаких наколок не разглядеть. Светились только счастливые глаза Чейвынэ да выглядывающая из-под керкера грудь…
Истосковавшийся по женскому теплу и водке, которых у Чейвынэ было в избытке, Петька попал в настоящий рай. Целый месяц был счастлив, не просыхал, не вылезал из-под полога и называл свою пассию Чаечкой. К сожалению, полярная ночь, как и водка, когда-то кончаются, с первыми лучами солнца протрезвевший Петька разглядел наколки, обозвал Чаечку Чингачгуком и сбежал на геологическую базу.
Там присоединился к трем ремонтникам, которых оставили в мастерской на всю зиму. О том, где пропадал целый месяц, старался не вспоминать.
Совместными усилиями привели в порядок вездеход, решили испытать и попутно поохотиться. Запаслись водкой, закуской, прогрели двигатель и вперед с песнями. По пути прихватили двух поселенцев с собакой. Мужики недавно освободились из лагеря, несколько раз помогали в ремонте, собака охотничья, почему не прихватить? Тем более у вездехода две кабины. Та, что для пассажиров, даже со специальным люком, чтобы высматривать добычу. Сидеть сверху холодновато – небольшая метель, мороз за тридцать, но, если с ружьем и водкой, даже получилась очередь.
И все бы ничего, и поохотились бы мужики на славу, но имеется у северных озер одна закавыка. Не у всех, конечно, но лично мне пара встречалась. Летом там плавают утки, плещется рыба, к зиме, как и положено, покрываются льдом, но с настоящими морозами вся вода из них уходит. До капельки. Представляете, лед почти метровой толщины, а под ним пустыня. Камни, смерзшиеся водоросли, мелкие рыбки, разные жучки.
По неизвестной мне причине в ледовом панцире образуются проломы. В те, которые возле берега, забираются соболи и собирают поживу. Однажды забрался и я. Сначала ледовая крыша не так и высока, но у скалы метров пять, не ниже. Светло, просторно, даже теплее, чем на улице, только очень страшно. Все время кажется, что сейчас лед обрушится и раздавит тебя насмерть.
На одно из таких озер наши мужики при полной скорости вкатили, попали в пролом и загремели вниз. Вездеход лег набок, несколько раз скребнул гусеницами и заглох. Того, что выглядывал из люка, перерезало пополам, у сидящего за рычагами Петьки оказались сломанными ноги. Не помиловало и остальных слесарей, а вот поселенцы отделались синяками. В переднюю кабину их вместе с собакой не пустили, очередь выглядывать из люка не дошла. Как говорится, не было бы счастья…
Их искали две недели. Случилось так, что отъезда никто не заметил, а потом метель замела все следы. Сначала поиски вели на «Буранах» и вездеходах, потом подрядили авиацию. Облетели все охотничьи избушки, проверили ущелья и распадки – пусто. Наконец нашли. Вернее, нашел знакомый мне летчик Валера. Увидел восседающего на олене пастуха, сел у него на пути и спрашивает: не подскажет ли, куда мог запропаститься вездеход с шестью пассажирами? Мол, ищем вторую неделю, а они как в воду канули. К счастью, пастух пожилой, знает вокруг каждую кочку, вот советует поискать в пустых озерах. Туда километров пятьдесят. Ходить очень рискованно. Он сам вместе с оленьей упряжкой едва не загремел. Хорошо, олени почувствовали опасность и шарахнулись в сторону.
Валера достал карту, просит показать, где эти озера, а тот ничего не понимает. Мол, так могу найти даже с завязанными глазами, а на карте не получается. Тогда летчик и просит:
– Сейчас я взлечу, а ты стой и показывай рукой в сторону этих озер. Только очень прошу: не торопись опускать руку.
Взлетел, определил курс и подался в сторону пустых озер. И точно. Километров через пятьдесят заметил протоптанный в снегу знак «Т», скоро рядом появились два человека.
Оказывается, поселенцы нашли у самого берега еще один пролом, выбрались наружу, но отправляться за спасателями не осмелились. Конечно же, слышали самолет и даже вытоптали для него сигнал, но тот прилетел только сейчас. У них беда, солярка закончилась, покалеченные люди совсем замерзают. У Петьки ноги побелели до самых колен. Вчера пытались отогреть и отломали два пальца. Давно сожгли лыжи, деревянные настилы и вообще все, что может гореть. Еды тоже никакой. Хотели убить и съесть собаку, но она каким-то образом проведала об этом и сбежала. Наверное, где-то сдохла, иначе бы давно показалась. Теперь едят погибшего слесаря. У зэков это не «западло». Сколько раз, готовясь в побег, брали в попутчики молодого зэка на пропитание. Его так и называли «кабанчик» или «живые консервы»…
В самолете носилки, целая гора спальных мешков-кукулей. Вытащили из-под ледовой крыши почти не подающих никаких признаков жизни мужиков, упаковали в кукули, перенесли в самолет. Погибшего слесаря решили не трогать. Ему уже все равно. Пусть ждет прокурора.
Валера отдал поселенцам всю еду, уже хотел взлетать, как вдруг явилась собака. Запрыгнула в самолет, виляет хвостом, родная дальше некуда.
Пастух с оленем тоже на месте. Стоит с вытянутой в сторону озер рукой. Менял ли за это время позу – не понять. Хорошо, «кукурузнику» для взлета и посадки места нужно едва больше, чем стрекозе.
Валера в двух словах сообщил пастуху обстановку, а тому большего и не надо. Достал из котомки кружку, сделал на шее оленя надрез, нацедил крови и приказал поить замороженных пассажиров. Их и поят, а олень стоит у самолета и благодушно смотрит. Мол, угощайтесь, мне не жалко. Пастух нацедил еще одну кружку, выстрогал из палки пробку и, словно бутылку, заткнул рану.
Вдруг откуда ни возьмись пылит оленья упряжка. Чейвынэ! Подъехала, забралась в самолет, каким-то чудом угадала кукуль с Петькой, попросила переложить на свои нарты, остальных подсказала везти в Галушку. Так здесь называют старое казачье поселение, в котором живут пожилые аборигены. Что-то вроде дома престарелых для вышедших на пенсию оленеводов. Если отвезти в больницу, врачи обрежут этих охотников так, что даже не смогут ползать, а в Галушке все старые люди немного шаманы. Постараются вылечить.
Галушка обозначена у Валеры на карте. Отсюда не так и далеко, но пастух снова настаивал лететь не по карте, а куда будет показывать рукой.
Распрощались. Чейвынэ погнала упряжку к своей яранге, пастух опять застыл с поднятой рукой и, пока самолет не скрылся за горизонтом, держал ее точно по курсу. Валерий же, сколько летел до Галушки, столько переживал, удастся ли найти хорошего шамана. За Петьку душа не болела. По всему видно, он попал в любящие руки, а как будет с остальными?
Но переживал напрасно. Есть у аборигенов севера один не изученный наукой дар – знать загодя, кто и с чем жалует в гости. Если с любовью, за два-три дня до появления ставят гостевую ярангу и забивают самого упитанного оленя.
Несущего же дурной замысел могут просто застрелить, как отправили на тот свет немало беглых зэков. Конечно же, за это им была положена денежная премия. Как признавались некоторые, что зарабатывали больше, чем старатели на добыче золота. Но стреляли-то не во всякого. Некоторых, как моих любимых писателей Короленко и Тан Богораза, просто вытолкали взашей. Были и такие, которых принимали в свои яранги и прятали от постороннего глаза.
С готовностью встречают и того, кто нуждается в помощи. Вот и сейчас. Лишь самолет коснулся снега, к нему устремились с нартами и увезли замороженных охотников. Никто ни о чем не спросил, просто забрали и увезли. Валере с поселенцами осталось облегченно вздохнуть и возвращаться в райцентр, чтобы сообщить милиции об оставленном во льдах полусъеденном охотнике да и об остальных тоже.
Как лечили Петькиных товарищей, я не имею представления, а вот что было с ним – до мельчайших подробностей. Прежде всего доставили из прибрежного стойбища очень старого шамана. Тот с утра до ночи стучал в бубен и пел песни. В перерывах поил Петьку настойкой мухомора и кровью чемеричного оленя. В тундре растет очень ядовитая трава чемерица. Из десяти отведавших ее оленей девять сдыхает, а вот один, повалявшись день-другой, оживает. Этого оленя запоминают и в подобных Петькиному случаях кормят чемерицей и мухоморами, потом его урину и кровь используют, «чтобы разогреть тело не сверху, а от костей». Вот моего земляка отогрели так, что даже шкура не слезла. Правда, четырех пальцев на правой ноге как не бывало. Оказывается, в тот раз отломали не два, а целых четыре, и пару просто приморозили на прежнее место. Но не прижились. Как шутил сам Петька, концы зачистили неважно, они и не законтачили.
Так до самой весны в яранге своей спасительницы и жил. Больше Чингачгуком не обзывал, пил крепкий чай, заедал олениной и очень хотел домой.
Как часто мы удивляемся сами себе: лишь собрался позвонить другу или какому-нибудь родственнику, как тот уже звонит сам. Телепатия, что ли? В одну из ночей Петьке так захотелось к Ганне, что его тоска долетела до Украины и коснулась ее сердца. А Ганна не из тех, которые запрягают до морковкиных заговинок, – сразу в самолет и на Чукотку. Адрес записан на конверте, о происшествии с Петей-Петушком известно всему побережью Северного Ледовитого океана. Скоро экспедиционный вездеход остановился у заветной яранги. Было все: объятья, целование, слезы. Потом, конечно, застолье, небольшой скандал, закончившийся тем, что заревновавшая хохлушка расцарапала чукотской княгине всю физиономию. Так что прочитать, какого звания эта оленеводка, да и все остальное, можно будет не скоро. Но, к удивлению, та совсем не обиделась. Она знала, что Ганна у ее любимого старшая жена и по северным законам могла младшую даже убить. Вот и подарила Ганне искусно сшитые торбаса, усыпанную бисером шапку и набранный из лоскутков нерпичьей шкуры керкер. Ганна сразу примерила, выставила левую грудь напоказ и села в таком виде за праздничный стол. Так две жены и сидели друг супротив дружки, Петька смотрел на обеих и с гордостью думал, что хоть у Ганны эта половина бюста и не такая упругая, все равно красивее, о прочих достоинствах не стоило и говорить…
АМАГАЧАН И ЛЮБОВЬ
Это в поселке или городе, если ты начальник, можешь валять дурака за спинами подчиненных. Получать большую зарплату, пить-есть в свое удовольствие да еще и орать на подчиненных. Не зря же все так любят быть начальниками.
В стойбище оленеводов совсем другая картина. У нас начальником тот, кто пашет больше всех, а если при этом заработает что-то лишнее, без всякого разговора пускает в общий стол.
Лето. Теплынь. Тундра млеет под солнцем и трелями жаворонков. Сидим у костра, режемся в карты. Больше четырех тысяч оленей, которых мы пасем, разбрелось по тундре, некоторые ушли за речку, и что творится за тальниками, отсюда не видно. Давно пришло время подняться и собрать стадо, но счет не в нашу пользу, и пока не сравняем, никто не двинет ногой.
Против нас с Нифантей играет старик Элит. Он не отличает дамы от короля, к тому же путается в мастях, поэтому вся надежда на костер. Элит сам развел его, угостил кусочком юколы, папиросой «Беломорканал», теперь заставляет отрабатывать. Возьмется за краешек карты, сидит и слушает. Если ветка в костре щелкнет протестующе, выбирает другую карту, если одобрительно – ходит этой. Вроде чепуха, но выиграть у него почти невозможно.
Раздающий в очередной раз карты Нифантя кинул взгляд в тундру и сообщил:
– Амагачан идет.
Амагачан – наш старший оленевод, согласно субординации все должны подхватиться и изобразить кипучую деятельность, а мы – ничего. Сидим, думаем над картами, шлепаем ими по разостланной на ягеле куртке.
Не доходя полсотни шагов до нашей компании, Амагачан положил на кочку украшенную бисером шапку, свитой в кольца ремень-маут, сшитую из шкуры августовского оленя кухлянку и отправился собирать стадо. Пастухи, значит, режутся в «дурачка», а начальник носится за оленями. Свистит, кричит, машет палкой. То появится на глаза, то скроется за тальниками. Кино и немцы.
Наконец согнал всех в кучу, оделся, подошел к нам и восторженно заявил:
– А пестрая важенка уже совсем не хромает! Еле догнал.
Сел рядом со мною, тоже настроился принять участие в игре, а мы ему даже карты не раздали.
Нет, у нас все любят Амагачана, даже немножко гордятся им, но такая уж в стойбище конституция – каждый живет так, как считает нужным. Скажем, чумработница Нючи, которая получает у нас зарплату за то, что обслуживает двух оленеводов, закрутила любовь с начальником почты и уже полгода сидит в поселке, но в стойбище о ней ни худого слова. Бригадир ставит в графике выход на работу, бухгалтерия исправно выдает зарплату. Начальник почты пропивает эту зарплату в одну неделю, и Нючи приходится брать аванс. Любовь!
С Амагачаном тоже хватило веселого. Нифантя рассказывал, когда первый раз приехал в стойбище, все ходили в расстройстве. Впереди ночь, да с таким туманом, что собственного носа не увидишь, а из восьми пастухов пятеро ушли на рыбалку и не возвратились. Зато явились медведи и кружат возле стада. Вчера днем задрали двух оленей, и что будет этой ночью – сказать трудно.
Нифантя, хотя сам не спал больше суток, говорит:
– Давайте торбаса, кухлянку, карабин – пойду в смену с вами.
Что это было за дежурство, муторно вспоминать. Но выдержали. Утром, когда отбились от медведей и собрали оленей, присели у костра попить чая, Нифантя вдруг вспомнил пастуха Амагачана, который вчера вечером лежал на шкурах и никакого беспокойства по поводу туманной ночи и медведей не проявлял.
– А что это у вас Амагачан сачкует? Заболел, что ли?
– Ничего не сачкует, – заступились за него пастухи. – Просто он не любит ночью оленей пасти. Может, он любит слушать, как птички поют, а ночью птички спят. Одни гагары кричат. Так разве они птички?
– Получается, он птичек любит слушать, а меня чуть медведь не порвал! – возмутился Нифантя. – Придем в стойбище, я этому любителю птичек разнесу весь птичник!
– Не надо разносить! – испугались пастухи. – А то он совсем убежит в поселок и будет там шарахаться до самой осени…
Так и случилось. Хотя никто не тронул Амагачана пальцем, все равно первым же вездеходом он слинял в поселок. Там заглянул в контору за деньгами и наткнулся на директора совхоза. У того проблема – вчера в контору пришло распоряжение отправить лучшего оленевода в Магадан. Но все пастухи далеко в тундре, вот оказавшегося под рукой Амагачана и отправили. Перед отправкой, понятно, искупали в бане и приодели как лондонского денди. Даже галстук повязали.
В Магадане у Амагачана была встреча с венгерской и финской делегациями. Их ученые решили, что наши аборигены одного с ними происхождения, вот на родственников посмотреть и захотели.
Неизвестно, к какому выводу пришли они после встречи с Амагачаном, но его жизнь перевернули начисто. После того как Амагачана сфотографировали и сняли на кинокамеру, очень симпатичная женщина подарила нашему оленеводу букет цветов и поцеловала в щеку.
Все бы ничего, но это был первый поцелуй в жизни тридцатилетнего Амагачана. Губы женщины были такими мягкими и горячими, что Амагачан чуть не потерял сознание.
Влюбленный и, как сказал Нифантя, «охреневший от желаний» Амагачан до утра шарахался вокруг магаданской гостиницы. Конечно же, был немного выпивши. Его забрали в милицию, отвезли в аэропорт и отправили в Эвенск. В стойбище возвратился только через неделю. Его встретили, как Чкалова после полета в Америку, выведали о обуявшей Амагачана любви, и Нифантя взялся помочь.
Часть наших пастухов – эвены, часть – коряки, а вот Нифантя – камчадал. В отличие от остальных, он пожил в большом городе, был два раза женат и даже сидел в тюрьме. Само собой, супротив наших мужиков – академик! В тот же день Нифантя связался по рации с конторой, те вышли на Магадан, и скоро все наше стойбище знало, что женщину, которая поцеловала Амагачана, зовут Галя, живет в Магадане, не замужем и имеет двоих детей.
После этого у Нифанти с Амагачаном произошел очень серьезный разговор:
– Ты, керя, закатай губы, – посоветовал влюбленному оленеводу опытный Нифантя. – Какая бикса согласится жить с тобой в яранге? Твоей Гале куда лучше по городу балду пинать. Потом придет на хату, мурцаловку натрамбует, завалится на шконку и смотрит этот кипишной ящик. Так что забудь. Правда, передачку от тебя примет и в благодарность даже расслабится. Только до Магадана с этой передачкой еще добраться нужно. Туда от нас автобусы не ходят, а начальники да депутаты летают на самолетах. Так что сначала стань начальником или хотя бы депутатом, а потом уже влюбляйся.
Если кто думает, что этот разговор как-то охладил Амагачана, то очень заблуждается. В давние времена молодой эвен, прежде чем жениться на девушке, несколько лет пас оленей ее отца. Да не просто пас, а жил в оленьем стаде. Питался чем попало, спал в снежных сугробах, выходил с почти голыми руками на медведей и волков. И это на Колыме, где мороз пятьдесят, а то и шестьдесят градусов, а метели дуют несколько дней кряду! Так что выносливость у Амагачана в крови.
Уже на следующий год он стал старшим оленеводом, вступил в партию, а через два ему вручили медаль и избрали депутатом. Само собой, Галя не осталась без внимания. Несколько раз Амагачан сам отвозил ей «передачки» с собольими и рысьими шкурами, красной икрой и олениной. Галя принимала подарки, в благодарность целовала ухажера и обещала приехать в стойбище погостить. Но дальше обещаний дело не шло.
Нифантя как мог успокаивал Амагача
на. Мол, тебя хоть целует, а мне одна на зону письма писала – вся камера завидовала. Когда откинулся, бегом к ней в объятья, а она меня таким гусарским насморком наградила, целый месяц на уколы бегал!
Но главное событие с Амагачаном произошло уже после моего появления в эвенском стойбище. Когда отмечали День оленевода, Амагачан напился и потерял кухлянку. Где и когда, совершенно не помнит. А в карманах депутатское удостоверение, партбилет и медаль. Начальство предупредило носить все с собой, вот и носил.
О происшествии сообщили в райком партии, оттуда явилась комиссия и такое выдала нашему бригадиру, что лучше бы и не жить. Да он и не собирался. Залез под полог и, как определил Нифантя, «впал в ступор».
У обитающих на Амазонке аборигенов есть такой способ казни. Наводят на стоящего в двадцати метрах преступника обыкновенную палочку и сообщают, что по истечении нескольких дней он умрет. И что же? Ложится и потихоньку умирает! Однажды «казненных» таким способом девятерых аборигенов выкупили ученые и развезли по лучшим клиникам мира. Ну и что? А ничего! Как ни лечили, а через четыре месяца похоронили последнего.
Наверно, подобная палочка была и в райкоме партии. Лежит наш Амагачан – бревно бревном. Сердце почти не бьется, пульс не прощупывается, зрачки не реагируют. Обстановка в стойбище хуже не придумать. Собаки воют, как по покойнику, женщины шьют похоронную одежду, пастухи спорят, нужно ли копать яму или достаточно обложить труп кусками свежей оленины, чтобы съели медведи. Даже жертвенных оленей приготовили.
Мы с Нифантей между делом попытались вызвать санитарную авиацию. Мол, человек умирает. Вылетайте!
Те интересуются:
– А что болит?
– Ничего не болит, – отвечаем. – Пьяный кухлянку потерял, а там медаль, партбилет, удостоверение депутата.
– Вы ему похмелиться налейте и больше нас не дергайте, – отвечают врачи. – Неделю тому назад одного такого в больницу доставляли, так он с носилок спрыгнул и побежал в гастроном за бутылкой. Теперь с нас за вертолет деньги требуют…
Дед Элит в наших попытках отправить Амагачана на излечение не участвовал. Развел костерок, плеснул в огонь водки, добавил кусочек оленины, послушал, как тот трещит, и заявляет:
– Лучше всего из стойбища, которое на Омолоне кочует, бабушку Кэтчэ приглашать. Она хорошая шаманка, все правильно сделает.
Запрягли оленей, привезли такую дряхлую бабку, что казалось, вот-вот рассыплется. А она даже не заглянула к Амагачану в ярангу. Развела среди стойбища свой костерок, угостила огонь мозгом жертвенного оленя, чуть подремала и зовет деда Элита с Нифантей:
– Вам нужно к дровозаготовителям на Тенкели ехать, предупредить, что скоро к наледи Амагачана в похоронных одеждах привезем. Элит хорошо знает, что нужно делать, а ты, Нифантя, старательно помогай. Иначе Амагачан совсем умрет.
Тенкели – это не близко. Два перевала и такая наледь, что можно утонуть вместе с нартами. Так что к поездке готовились основательно. Взяли продукты, палатку, запасные упряжки, рацию.
Выехали на рассвете. Нифантя легче меня, поэтому едет на передней упряжке. Из-за этого я ничего, кроме оленьих хвостов да летящего из-под копыт мха, не вижу. К обеду взяли первый перевал, отдохнули и принялись за второй. Наледь объезжали уже в темноте и к охотничьей избушке подкатили за полночь. Отпустили пастись оленей, разбудили хозяев и сразу за стол. У нас с собой две бутылки водки, низка вяленых хариусов и сумка самых вкусных в мире оленьих языков.
Живущие в избушке лесорубы нам и нашим подаркам рады, даже не скрывают этого. Познакомились. Довольно пожилого дядьку зовут Иван, помоложе – Сашко. Выпили, закусили и легли спать. О том, зачем приехали, даже не заикнулись. Бабушка Мамми предупреждала, что разговор нужно вести только на свежую голову.
Я спал от стенки и, когда поднялся Нифантя, не имею представления. К моему пробуждению он сидел вместе с хозяевами за столом. Сашко писал в тетрадке инструкцию по спасению Амагачана, а Иван пытался выяснить, что они будут за это иметь.
– Самого упитанного оленя получите, – радушно пообещал Нифантя.
– Двух! – насел Иван.
– Согласен. Пусть два.
– Каждому! Иначе пусть ваш бригадир остается на небе.
– Хорошо. Будет по два, – несколько потухшим голосом согласился Нифантя. Затем повернулся к Сашку. – Запиши, Галя живет в Магадане, а партийная комиссия – в Эвенске. Там инструктором Дина Прохоровна, Амагачан ее больше всего боится…
Допили водку, закусили вареными языками, запрягли оленей и поехали к наледи. Наши уже ждут. Горит костер, бродят олени, бегают собаки. Но все молчат. Даже олени не хоркают.
Встретила бабушка Кэтчэ. Угостила всех из ложки какой-то кашицей, подержала за руки и направила к костру. Только сейчас мы заметили, что рядом с костром на нартах лежит с головы до ног упакованный в белые оленьи меха Амагачан. Я задержался, Сашко с Иваном подошли совсем близко. Услышав скрип снега под их ногами, Амагачан приподнял голову. Его лицо скрыто пыжиковой маской, из-под которой выглядывают только краешек носа и губы. Лишь лесорубы остановились, он понюхал идущий от них запах, протянул руки, ощупал одежду и лицо Ивана, после таким же образом исследовал Сашка.
– Ну, с прибытием на небо тебя, Амагачан! – обратился к нему Иван. – Рассказывай, что там с тобой приключилось?
– Да вот немножко умер, – несколько виновато произнес Амагачан.
– Ну ты даешь! – восторженно провозгласил Иван. – Такой молодой и загнулся! Болел, что ли?
– Зачем болел? Совсем не болел. Кухлянку потерял, а в карманах документы и партбилет. Партийная комиссия сказала, что выгонят из старшего оленевода, из депутатов тоже выгонят.
– Это они уже слишком. Совсем законов не знают, – включился в разговор Сашко. – У тебя же депутатский иммунитет. Хоть десять человек зарежь, а пока иммунитета не лишат, даже пальцем погрозить не имеют права. Сейчас ты, дорогой, как жена Цезаря, – вне подозрений. У депутатов это самый уважаемый закон. Но вот с партбилетом у тебя прокол. Давай, брат, возвращайся на землю и ищи документы. Иначе получится, что ты от Дины Прохоровны на небе залег, а мы тебя крышуем. Нам такая дискредитация не нужна.
– Не хочу на землю, – запротестовал Амагачан. – Здесь жить буду.
– А как же Галя? – глядя в записную книжку, спросил Сашко. – Вдруг у нее от тебя будет ребенок? Это знаешь какой грех! Будешь за него сто лет в смоле кипеть.
– Она только меня целовала, – начал оправдываться Амагачан.
– Так ты все и помнишь! – возмутился Иван. – Место, где оставил кухлянку, не помнишь, а насчет Гали – без сомнения. Может, у нее от тебя уже трое или четверо детей. Алименты платить, брат, нужно!
– Вспомнил! – вдруг обрадовался Амагачан. – Кухлянка в стланиках лежит. Я за упряжными оленями гонялся, жарко стало, в стланиках и оставил. На земле не мог вспомнить, а здесь, на небе, все вспомнил!
– Вот и ладненько! – весело заключил Иван. – Как алиментами шуганули, сразу мозги заработали. Ты эту Галю хоть любишь?
Амагачан стеснительно признался:
– Люблю. Нормально люблю.
Иван обернулся к Сашку:
– А ну-ка посмотри, товарищ, в свои записи. Любит ли Галя Амагачана?
Сашко пошелестел своей тетрадкой и радостно провозгласил:
– Любит. Больше жизни любит. Здесь так и записано: ни спать, ни есть без него не может, а признаться стесняется.
Иван обрадованно хлопнул в ладоши:
– Вот видишь, какие чувства, а ты сомневался. – Затем обернулся в нашу сторону. – Эй вы, люди! Забирайте вашего Ромео на землю и дуйте в стланики за кухлянкой. А ты, друг, живи и никого не бойся. У нас про твою Дину Прохоровну столько грехов записано, не то что на небо, в тюрьму не возьмут. Так ей при встрече и передай…
Дальше все просто. Отвезли Амагачана в стойбище, переодели в пастушью одежду и отправили искать кухлянку. Нашел. Правда, депутатское удостоверение мыши погрызли, но партбилет не тронули. Маленькие, а разбираются...
А через неделю в наше стойбище прилетела Галя. Улыбчивая и довольно симпатичная женщина. Во всяком случае нам с Нифантей понравилась. Спрыгнула на снег, улыбнулась, подошла к растерявшемуся Амагачану и поцеловала. Сначала в щеку, затем по-настоящему – в губы. Мы с Нифантей восторженно завыли и захлопали. А Галя внимательно всмотрелась в собравшихся у вертолетной площадки людей, снова улыбнулась и принялась целовать бабушку Кэтчэ.
Откуда она узнала, что ее Амагачан «вернулся на землю» только благодаря старой шаманке, мы с Нифантей не имели представления. Тем не менее пообещали вертолетчикам за двухчасовую задержку медвежью шкуру, после накрыли в гостевой яранге роскошный обед. Чуть посидели и слиняли вместе с летчиками и шаманкой Кэтчэ в ярангу деда Элита. Нужно же влюбленным побыть наедине.
Дня через три после этого события, когда мы вместе с Нифантей и дедом Элитом пасли оленей, я спросил:
– Никак не пойму, что это вы, лишь прижмет, впадаете в ступор. Сначала эта женщина, у которой на постели мышь мышат родила, теперь Амагачана с испуга перед Диной Прохоровной заклинило. Словно лисицы или скунсы. Говорят, у них во время ступора даже глаза стекленеют. Интересно, у Амагачана тоже стекленели?
– Вот только не надо! – запротестовал Нифантя. – Бабушка Нючи, которую возили на Нислэдю, ни в какой ступор не впадала. Ей просто глаза завязали, чтобы не видела, куда везут. А вот у Амагачана – уже серьезно. Мог через пару дней и кони кинуть. Здесь был случай покруче. Уже на моей памяти вдруг обнаружили бесхозное стадо тысяч на пять. С людьми, конечно, не колхоз, не совхоз, а так пасут оленей, и все. То на Колыме, то в Якутии, то на Чукотке. Мясо продают приискам и геологам, отовариваются в магазинах. Как говорится, сами себе хозяева. Нормалек!
Не знаю, кто на них настучал, но быстренько набили полный вертолет начальников, отправились разбираться. Подлетели к стаду, олени – врассыпную, а старик эвен, который у пастухов за главного, – по вертолету из карабина. Попал, не попал, но пару дырок в салоне сделал. Эти, понятно, дёру.
На второй день высадили два вертолета милиции, окружили, кричат, машут пистолетами. Старика, который стрелял из карабина, повязали, доставили в Магадан, а он в ступоре. И по морде били, и кололи, электрошоком пробовали – не шевельнулся. Так в отключке на двадцать третий километр в психушку и отвезли. Врачи промучились неделю, все равно умер. Его, понятно, в морг, на второй день открывают, деда йок! По-татарски «нет» значит. Мороз под сорок, решетки на месте, замок на месте, прежние жмуры – словно дрова валяются, а этот исчез. Так до сих пор и не нашли. У нас на зоне врач за наркоту срок тянул, все сам видел. Баба Мамми говорила, что раньше здесь шаман Каляна жил, мог пастуха из стойбища в ярангу по воздуху перенести. Но Каляна к тому времени уже умер, другим эта заморочка совсем не по зубам. Вот и думай.