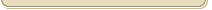Акция Архив

3 марта стартовал молодежный конкурс журнала «Север» «Северная звезда»-2024

Подписку на журнал "Север" можно оформить не только в почтовых отделениях, но и через редакцию, что намного дешевле.



Позвоните нам
по телефону
− главный редактор, бухгалтерия
8 (814-2) 78-47-36
− факс
8 (814-2) 78-48-05
"Север" № 07-08, стр. 52
Не потерять небо...
Олег МОШНИКОВ, Эссе
Олег МОШНИКОВ
г. Петрозаводск
НЕ ПОТЕРЯТЬ НЕБА…
Дед
Так уж устроены люди: что имеем не храним, потерявши – плачем… С теплом и любовью я вспоминаю своего не родного, но бесконечно близкого деда – Федора Ивановича Галинку. Как хотелось бы сегодняшним днем вернуть те дни и недели, когда можно было поговорить с дедом, узнать больше о нем, расспросить обо всем, услышать от него мудрый совет или интересную новость. Но это мы понимаем задним числом, не возвращая отрывному календарю все сорок лет оборванных, но не прочитанных страничек жизни…Чувства и переживания ищут выхода из череды обыкновенных дней, теснятся в голове, владеют сердцем, стремятся на бумагу и проникают в сны…
Недавно я видел во сне мастерские, где работал дед. Какая-то невидимая волна подтолкнула меня к проходной, через которую я никогда не проходил, а может, ее и не было вовсе… Я искал деда… Вернее, я стремился найти людей, которые его знали, увидеть его цех, кузню, почувствовать запахи горячего железа, услышать бой механического молота… На проходной, узнав о цели моего прихода, приятно засуетились и тут же проводили меня в административное здание, к начальству. Деда здесь уважали. Сорочья почта оповестила рабочий и начальствующий люд, что мастерские посетил поэт, внук Федора Галинки. И меня нисколько не удивляло обстоятельство, что ко мне подходили мужчины, знакомые мне по старым черно-белым фотографиям из дедушкиного альбома, и одеты они были по моде 50-х годов – в широкие брюки и свободные пиджаки. Как будто время прокрутило свои заводские маховики на 60 лет назад, когда отстраивался разрушенный войной Петрозаводск и люди вдохновенно смотрели в далекое и безоблачное завтра, когда меня еще не было на свете… Провожатые водили меня от одного начальника к другому. В коридорах незнакомые люди жали мне руку. Оказывается, многие знали о моих детских проделках. Как дедушка, от невозможности остановить мои прыжки и спурты из комнаты в кухню и обратно, на время привязывал меня к кровати простынями и полотенцами… В кузнице меня окружила дедовская смена. Широкоплечие мастера в заскорузлых спецовках на время остановили свои грохочущие машины. Закопченные лица озаряли белозубые улыбки. И все говорили о деде, будто он был не простой кузнец, а начальник отдела кадров. Зная о моем творчестве, торжественно повели в красный уголок, где уже собрались рабочие, дружески оглядывающие мою смущенную фигуру. Волнуясь, я прочел несколько стихотворений. После выступления каждый старался подойти и, похлопав по плечу, сказать доброе слово внуку-стихотворцу, вспомнить деда. При выходе из заводской конторы, оглянувшись на незнакомые и такие родные стены, я заметил памятную доску, вылитую из темного металла, на которой золотыми буквами было выбито: «Здесь работал кузнец Федор Иванович Галинка».
Дедовская квартира на улице Краснодонцев была местом сбора двух семей: моей мамы и ее сестры Алевтины. Сестры очень уважительно относились к отчиму – мудрому и сильному человеку, уроженцу Украины Федору Галинке. После войны он взял в жены женщину с двумя девочками. Годы были трудные, голодные. Петрозаводск восстанавливался из руин. И помощь деда-кузнеца, участника войны, семье и городу была оценена по заслугам. После скитаний по родственникам и обитания в летних сараях, где нельзя было пользоваться огнем и ночью в звездные щели проникал северный холод, Федору Галинке выделили двухкомнатную квартиру в двухэтажном деревянном доме.
Вот в этот дом мы и стремились. Мы – это я и мой двоюродный брат Серега. Сестры с удовольствием оставляли у деда и бабушки двоих пострелят. Но занимался с нами, конечно, дед. Бабушка работала в буфете кинотеатра «Сампо», была занята с утра и до вечера. Всегда торопилась – к подругам, дочкам, не отстать от переменчивой моды, занять очередь в магазине. А дед был дома. В 1960-х годах у него открылась военная рана, началась гангрена. Дед остался без ноги. На костылях он ходил с нами в лес, показывал, как надо искать грибы, собирать ягоду, различать полезные растения, выкапывать калган.
Но большую часть нашего ребячьего времени занимал двор – с сарайками, ходулями, высокой голубятней. Авторитет деда для дворовой шпаны был непоколебим. Никто не смел тронуть галинковских внуков. На глазах ребятни по мановению сильных мастеровых рук Федора Ивановича появлялись на свет воздушные змеи, деревянные поделки, свистульки, подшипниковые самокаты. Его украинские прибаутки смешили весь двор. Для каждого у него припасено меткое словцо или занимательная история. На широкой лавке перед подъездом находилось место першим дружкам: штепселю Кольке, тарапуньке Игорьку или соседскому Шурику-мацапурику. А ватажный атаман Витька Чигушин величался забавно и таинственно: Чингачгук – вылыка гадютьсяра.
А какие Федор Галинка готовил украинские борщи и щи из крапивы! Дед читал все отрывные календари, где вместе с кулинарными рецептами выискивал различные полезные факты, исторические события, мысли великих людей. Не раз я приносил ему из школьной библиотеки книги о животных, географических открытиях, целебных травах. Настольной книгой деда была брошюра о пользе пчелиного меда, мумие, прополиса. Всеми найденными полезными мыслями он непременно делился с нами. Важно садился на диван, увлекал в широкую пружинную яму внуков, доставал из специальной папочки листы отрывного календаря или книжку с закладками и читал, читал, забавно поглядывая из-под очков на наши красноречивые физиономии: когда же наконец дед нас гулять отпустит…
Но главным дедовским богатством лично для меня были подшивки журнала «Крокодил» – с 1958 года! Чего греха таить, расшалившись с братом, мы могли перевернуть вверх дном всю квартирную мебель. Дед нашел единственный способ, чтобы не привязывать внука к кровати и усмирить мой непоседливый, любознательный нрав, – он доставал из шкафа каждый раз новую годовую подшивку «Крокодила», и я замирал над цветными страницами на долгие упоительные часы. Дед буквально влистал в меня юмор и добрую иронию, которыми пестрели листы советского сатирического журнала.
До сих пор, соответственно жизненным обстоятельствам, оживают в моем сознании картинки, шутки и карикатуры, увиденные мною в детстве. Да и сама веселая, жизнерадостная, неунывающая обстановка дедовской квартиры, наполненная булькающими кухонными звуками, шелестом отрывного настенного календаря, запахом трав и лечебных мазей собственного приготовления, готовила нам с братом новые и новые сюрпризы. Как-то бабушка, крепкая, дородная женщина, пришла из «самповского» буфета слегка навеселе. Отмечали коллективом какой-то революционный праздник. Увидев с порога родных внуков, она сгребла нас в охапку, прошла в комнату и подняла нас за грудки – по одному ребенку в каждую руку – вверх, к цветному закачавшемуся абажуру. От неожиданности происшедшего пуговки на детских рубашках выстрелили дружным залпом. Мы с Серегой не могли произнести ни слова, зато довольная бабушка с гордостью восклицала: «Я – Жаботинский! Я – Жаботинский!» Насилу дедушка нас от бабушки отбил.
Весной 1976 года дедушка почувствовал себя хуже. Сказалась вынужденная малоподвижность могучего тела кузнеца – у Федора Ивановича на фоне развившегося сахарного диабета началась гангрена второй здоровой ноги.
Перед тем как лечь в больницу на сложную операцию, дед подарил нам с братом по книге. Книги в то время значили очень многое. Они не теснились на полках. Они прочитывались залпом и передавались друг другу как бесценное сокровище. Сергею досталась книга Алексея Толстого «Петр I». А мне – каверинские «Два капитана». Наверное, благодаря этому подарку, рассказам дедушки о фронте я выбрал своим жизненным кредо военную романтику, окончив артиллерийское училище в Свердловске, где в курсантской газете состоялась моя первая стихотворная публикация.
Операция не помогла. Беспомощным обрубком дедушку перенесли в палату, положили на кровать. Дед бредил. Метался в беспамятстве. Никого не узнавал. Бабушка пыталась его напоить чаем. Следила за капельницей. Меняла простыни…
Последними словами умирающего Чехова была сказанная по-немецки фраза: «Я умираю…» Оскар Уайльд перед смертью оглядел комнату и выдохнул иронично: «Или эти обои, или я…» Что произнес, умирая, мой неродной дед Федор Иванович Галинка, мне потом рассказала бабушка, сидевшая у его больничной постели. Перед тем как впасть в предсмертную кому, дед ненадолго пришел в себя, взглянул на бабушку, взял ее за руку: «А, это ты, тарапунька…» Через несколько часов его не стало.
Какие разные последние слова произнесли разные люди. Кузнецы, писатели, романтики, мастера, разделенные веками и странами. Но большая судьба, большое сердце, большое желание жить объединило их, таких непохожих, таких любящих людей, как Антон Чехов, Оскар Уайльд и дедушка Галинка.
Под могильный камень,
Жижу и суглинку
Не отпустит память
Федора Галинку.
Загостилась, верно,
Давняя кручина…
Все жестокосердна
Родина-чужбина!
Но того, чужого,
Не отнять у деда,
Здесь его «Аврора»,
Здесь его Победа…
Битый век снисходит
До обиды детской
К той стране далекой,
К той стране советской.
А куда податься,
Перейдя границы,
К тем же «иностранцам»,
К тем же украинцам?
Уповать на память –
Бередить обиду…
Что же будет с нами
И Россией, диду?
Безоглядной веры
Я твоей не стою,
Стоя пред фанерной
Красною звездою.
СТРАНА РОЖДЕНИЯ – СССР
1
Придет час... Придет час расставания... Что ты будешь вспоминать, жалея себя, родных, детей? Недополученную любовь, тепло, награды? Что не сумел, что успел совершить? Будет и это... Но постепенно, отходя от суеты, следуя за полоской небесного света, Душа окунается в густые травы, раздвигая упругие ветки, уходит в небо, в небо Родины. Перед глазами плывут городские скверы, деревенские причалы, палисадники детства, кусты смородины и малины на родительской даче, город студенческой юности, лесные озера и железнодорожные полустанки, все, что связано с семьей, друзьями, что озарено вспышками избирательной и щадящей памяти – свои маленькие парижи, иерусалимы, земли Санникова. И эти вспышки, этот тонкий небесный луч – вся твоя жизнь: первая книга, спектакль, стих, успех, первое любовное чувство, посаженное дерево или выточенная своими руками деталь, первая молитва, первое слово твоего долгожданного ребенка, радость, ощущение переполняющего тебя мира – это много! Это стоит жизни.
2
Улица Загородная, когда-то – окраина Петрозаводска. В моем дошкольном детстве на ней жили мамины родственники, стояли редкие пятиэтажные и двухэтажные дома. За железнодорожной линией и деревянными складами шумел лес. Сейчас вдали вместо девственной лесной чащи высятся многоэтажки четырех разросшихся микрорайонов. Улица Загородная оказалась в центре современного, категорийного города. Летом, осенью, зимой – под слоем пыли, опавшими листьями, под толщей оплывшего снега – неодолимая временем, застрявшая в колеях эпох грунтовка. Почитай 300 лет со времен Петровской слободы елозят суглинок и ледяные колдобины упертые обыватели и осмелевшие тарахтелки. Разлившиеся ручьи, бурлящие рытвины, грязь, редкие островки суши, где теснятся пустые сараюшки и брошенные гаражи, предваряют появление огромной замечательной лужи. В начале 70-х катали меня по этому достопамятному водоему на сколоченном дощатом плоту двоюродные братья… Братья – старше меня на восемь лет – рассказывали, что раньше, до моего появления на улице, вся Загородная, и их двухэтажка, и восхитительная лужа, утопали в яблоневых садах. Яблони росли во дворах одноэтажных частных домов, свешивались через дощатые заборы, укрывали дорожные рытвины белым весенним снегом. Но в один миг ради нескольких блочных «хрущёвок» снесли деревянные дома, вырубили сады. Из разоренных человеческих гнезд мальчишки 60-х вытаскивали старые патефоны и оставленные хозяевами иконы. Иконы ставились в ряд за ближайшими сарайками и расстреливались камнями. Разлетались стекла старинных киотов. Брызгала позолота... Бога нет. Так учили маленьких «стрелков» в школе, об этом многозначительно молчали глядящие на обрубленные яблони и площадки для новых штампованных пятиэтажек сердобольные домочадцы. За эти ли или за какие другие грехи переселили «загородских» жителей в одну из таких гулких, вместительных «хрущоб» у кинотеатра «Сампо». Обезлюдела улица, выросли и поразъехались дворовые друзья. Не слышно окрест детских голосов... Но до сих пор сияет призывной небесной гладью и манит яблоневыми облаками океан моего городского детства.
3
Нет-нет да и аукнутся в памяти детские годы, дорога в школу. Вспоминая «ударную» десятилетку, мысленно перелистываю свое первое пятерочное сочинение по повести Валентина Катаева «Сын полка». Учительнице литературы, причем сельской, а не городской – в четвертом классе я три месяца занимался в Кончезерской школе при детском санатории «Кивач» – понравилась моя трактовка дальнейшей судьбы Вани Солнцева. Я до сих пор храню эту памятную тетрадь. Школьные тетрадки... Умные обложки предлагали ученикам, для пользы дела и патриотического воспитания, таблицу умножения, меры веса и длины, тексты популярных советских песен: «Орленок», «Взвейтесь кострами», «Песня о Родине», «Солнечный круг», «Маленький барабанщик». Сейчас дети идут в школу с тетрадями и дневниками, кричащими о красивых, богатых, зомбирующих удовольствиях. Яркие картинки рекламируют кока-колу, английские футбольные клубы и дорогие машины, показывают новинки молодежной моды, прелести полуголых красавиц и японской анимации. И как-то незаметно, неброско, мимо красочной современной рекламы, бредет никому не нужное, не родное детство, ковыляют добрые слова и полезные вещи… Вымаранное прошлое и яркое будущее в пустых аляповатых картинках… А не будет ли то же самое и с идеологией этой, не нашей, навязанной, пресыщенной наслаждениями жизни? Ведь подобное происходило уже в истории России – с Белой гвардией. Отметались как пережиток, невозвратно уходили дворянская культура, гордость, мысли о судьбе покинутой Родины… Как ныне уходит Красная гвардия – ни чести, ни славы… Ни заводов, ни деревень… Закрываются и перепрофилируются детские лагеря и санатории… И желания – или ниже пояса, или о большом количестве денег… И ни слова о Родине, которая начинается в том числе и со школьных тетрадок, и с «картинки в твоем букваре»… Слово, надо сохранить Слово. Но как иногда хочется на веки вечные отодвинуть в глубину письменного стола тетрадь, куда я в последнее время заношу свои мысли и наблюдения, прихлопнув ладонью красочную обложку с летящим над пропастью Суперменом…
4
Когда в 1953 году умер Сталин – все плакали. Плакала моя мама, худенькая семилетняя девчушка, воспитанница детского дома. Думали, будет хуже. Стало лучше. Стали возвращаться из детдомов и тюрем наши родные. После разрушительной войны, неоправданных репрессий и нечеловеческих усилий работного люда – выжил, выстоял Советский Союз!
В 1982 году умер Леонид Ильич Брежнев. Молчавший тихие застойные годы, заверещал над корпусами Онежского тракторного завода долгий гудок. Я вышел из механического цеха, вытерев грязные руки и влажную испарину на разгоряченном лице мотком ветоши. На несколько минут по всей стране встали цеха, фабрики, фермы. В один момент страна ахнула! Те, кто прильнул в тот час к телевизору, увидели, как неловкие служаки уронили в могильную яму дубовый гроб. И подумалось – все. Хуже уже не будет.
С рухнувшим в Красную площадь гробом оборвалась цепь советских поколений, и уже не остановить закрутившейся шестерни истории: смену генсеков, партийную чехарду, перестройку, предательство и беспомощность власти… потерю идеалов тысяч и тысяч выброшенных на произвол судьбы, лишенных работы и смысла жизни людей. Ничего не вернуть. Никому не вернуться в Советский Союз... Разве что в анкете: страна рождения – СССР…
5
Многое изменилось за последние годы. В стране воцарился культ вещей. Вещи, вещи, вещи! Вещи заполняют комнаты, сверкая драгоценными камнями, утяжеляют шеи и руки, разделяют людей стенами, особняками, банковскими сейфами и зачастую обедняют и захламляют душу. Вещи не возьмешь с собой в могилу. Ненужные, чужие вещи не приносят счастья. В лучшем случае они превращаются в деньги. Деньги – превращаются в пыль… Но есть вещи, в которых больше души, чем в делах и поступках многих ценителей и хранителей вещей. В них есть нечто неуловимое, что заставляет вспыхнуть или увлажниться слезой радужки глаз, что схоже с приятными и давно забытыми ощущениями пальцев, удивленным и трогательным замиранием жизни, которое происходит при встрече с чудом – дорогим воспоминанием. Вот они: обнаруженные в нише родительской квартиры старые детские пальтишки; принесенная вскоре после похорон из заводского рабочего шкафчика клетчатая фланелевая рубашка отца; оставшаяся от мамы родовая икона, намоленная, истинная, с необыкновенными, выписанными древним мастером глазами Иисуса; старинная елочная игрушка, без которой не обходился ни один Новый год моей жизни в стенах родного дома; бабушкины заводные часы, чье сердцебиенье не останавливается уже 40 лет… Вещи, соединяющие поколения, судьбы, неумолимо текущие века, – это то, что было известным рефреном советской песни «С чего начинается Родина». А продолжение песни, продолжение Родины – в прикосновении памяти. Уходят страны, стареют вещи, а Родина остается: Родина, род, семья… И хочется верить в это продолжение, что для кого-то эти вещи, мысли, песни, образы, принятые и понятые душой и составляющие ее несметное богатство, станут глотком свободы.
6
Кому-то необыкновенно повезло – родиться для светлой жизни и умереть с верой в безоблачное завтра, так и не узнав всей страшной правды, не испытав разочарования от бездарного, предательского скудомыслия вождей, не изведав горечи Великой Победы, не заглянув в зыбкое будущее своих детей и горячо любимой Родины… Кому-то несказанно повезло – родиться и умереть в Советском Союзе...
МАРЦИАЛЬНЫЕ ВОДЫ
Хорошо в Марциальных Водах! Хорошо снежной зимой и звонким комариным летом. Хорошо и поздней осенью, когда остывает солнце и ватную сонную траву сковывает иней. Еще не подул вольный северный ветер, не намел непролазные сугробы, не укрыл белой шубой заиндевевшую позолоту. Бело-зеленое кружево обрамляет шуршащую, накрахмаленную инеем тропинку. Будто сама Земля, белолицая невеста, протягивает украшенный дивным подзором рушник могучему великану – триобхватному сосновому кряжу. Теплая червленая кора – кольчуга древнерусского воина. Красные бугристые сапоги. Облитый солнцем богатырский шелом. Ветви, как заткнутые за пояс мечи. Поднята на плечо тяжелая палица. Плащ сверкающей смоляной лавиной стекает в распадок с журчащим ручьем. Тихо на сердце. Тихо в природе. Спит за зеленым косогором северный ветер. Дышит спокойствием и силой карельская сосна…
Отпуржила зима, отряхнула от рыхлого снега дороги и взгорки. Приготовилась к встрече весны. И задумалась, замечталась. Не торопится дальше на Север…
Пока не раскрылся ледяной озерный цветок и верба на стылом ветряном берегу не брызнула ввысь пушистыми почками, я иду навстречу одиночеству – вербному острову, затерявшемуся посередине заснеженного лесного озера. Загостившаяся стужа сковала ивовые кусты, защемила сердцевину, не пустила живительный сок навстречу скупому мартовскому солнцу.
Наломав хрупких ледяных веточек, поставлю их в банку, расшторю кухонное окно!.. Исполнится радостью душа, когда нежный весенний пух станет белее снега и тонкие ветки коснутся мокрых соленых щек, и – мне будет с Кем поговорить… в Вербное Воскресенье.
…Налетевший северный ветер разыгрался как ребенок с прошлогодней листвой! С ветки на ветку прыгают яркие алые мячики – снегири. Засмотревшись на них, забыл о своей игре ветер, уронил листья в заледеневший ручей. Выпятил губы, захныкал, закружился в обиде на глупых птиц и дунул что есть силы в самую снегириную стаю. Полетели в белое небо легкие юркие пташки.
Стало холодно. Пойду домой, отогрею пред белым тетрадным листом озябшие руки… Наступил март, но по-прежнему стоят морозы и кружится снег. Обиделся на нашу землю северный ветер. Чудак! Играть с юной липкой листвой, трепать первоцвет не менее интересно, чем студить лужи и поднимать в небо снегирей. Осади! Не гони на солнце снежные тучи! Дай земле проснуться…
ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ НА УЛИЦЫ ДЕТСТВА
Семья, двор, школа… Ощущение себя в мире и мира в себе у всех складывается по-разному. У каждого есть свой взгляд на одни и те же вещи, свои игры, пристрастия, музыка, книги, свой круг общения, свое вырастание из детских фантазий…
Мир моих детских фантазий стал предтечей непроходящего подросткового романтизма. Детсадовские игрушки, первые детские киносказки, книжки и пластинки сформировали мое самоощущение, выпестовали воображение и мечтательность, подтолкнули к более красочному, живому, образному осмыслению фильмов и телепередач, книг и радиопостановок, кляссера с марками и жестянки со старинными монетами, которые частенько заменяли мне товарищей по играм и занимательным беседам. Не скажу, что я был необщительным ребенком. Но я не знал тогда другого внешнего круга существующего вокруг меня мира, не ограниченного циркулярной линией очерченного рекой и дорогами городского района – двор, семья, школа…
В школе круг общения замыкался двумя-тремя приятелями и тесной партой, подавляющей волю и вырабатывающей способность воспринимать учебный материал, сиречь – усидчивость. Двор насаждал своих ватажных авторитетов и приучал терпеть незаслуженные обиды. И только дома, открывая книгу, перебирая марки, просматривая дневной фильм, включая радиопостановку или ставя на проигрыватель любимую пластинку, я на мгновение погружался в другие звуки, краски, запахи, истории окружающего меня мира.
Однажды мне подарили старый николаевский пятак. Потом кто-то оставил мне английский пенни. И я начал собирать старинные и иностранные монеты. Увлечение мое было недолгим и несерьезным. Я даже изредка пополнял фонды Карельского краеведческого музея из собственной сокровищницы. Брал потемневшую монетку с царским гербом или советский серебряный полтинник с мускулистым молотобойцем и относил знакомому музейному работнику. Мужчина с серьезными большими очками, рассмотрев предложенные монеты, вручал мне контрамарку на пять (!) бесплатных посещений музея и снова уходил в таинственные фондохранилища. Сколько раз, всматриваясь в остекленные стеллажи с рассыпанными по ним монетами, я пытался разглядеть свои… Но все медяшки и серебряшки были досадно неотличимы друг от друга. И мне ничего не оставалось, как в очередной раз обходить трехэтажные экспозиции музея, под штукатуркой и глобусообразным куполом которого скрывались стены кафедрального собора, превращенного советской властью в храм культуры. Экскурсия начиналась с зала революции и заводского дела, поднималась в карельскую избу и поселения каменного века и заканчивалась на третьем этаже, где экспонировались обитатели лесов и озер Карелии. Посередине природоведческого зала были выставлены чучела лосей в обрамлении искусственных елочек и рябин. С этой живописной экспозицией был связан один забавный случай. Случай из детсадовского детства…
Летом мой детский сад, находившийся по соседству, на улице Льва Толстого, в полном составе выходил на «Ясную поляну». Так назывался коллективный выход на прогулку в «музейский» парк. На полянах среди высоких деревьев и заросших кустов мы и играли: в ляпы, прятки, белки-собачки, сражались на вицах со сверстниками из старшей группы. А за кустами и деревьями высился таинственный «глобус» музея. И вот однажды нас повели на экскурсию в это величественное колонное здание. Поднявшись по широкой лестнице, стайка дошколят оказалась под притягательным музейным «куполом». Детсадовцы осматривали мохнатых, пернатых, чешуйчатых представителей природы Карелии. За всем происходящим следили дремотные взгляды восседающих у входов и выходов бабушек-вахтеров. Вдруг по гулкому паркету зацокали каблучки экскурсовода: «Внимание, дети! Перед вами экспозиция флоры и фауны Карелии…» Следуя в направлении движения руки решительной и строгой женщины, экскурсия облепила слабо освещенную застекленную нишу. За стеклом высился замшелый карельский лес с птицами, лисами, кабанами. Местами между застывшими лесными обитателями лежал снег. Не утерпев, я спросил тетю-экскурсовода, почему здесь так холодно – даже звери бедные замерзли… «Нет, мальчик, – гневно взглянула на меня экскурсовод, – они не замороженные и снег – не настоящий!.. А теперь плавно переходим из зимы в лето, – продолжала свое выступление тетя. – Видите, в траве – голубые в крапинку яички? Это яички дрозда. А в этом гнездышке – бледно-кофейные в бурых пятнышках – глухариные… Мальчик, – опять пресекла мои удивленные восклицания сердитый экскурсовод, – ты можешь помолчать хоть минутку? Когда я закончу, разговаривай сколько угодно. И не дави на стекло руками. И носом не дави!.. Во мху, – обернулась она к экскурсантам, – прячет свои бледно-желтые с густым темно-бурым крапом яички куропатка. Яйца серого журавля – оливкового цвета, достигают 97 мм. В центре залы семейство лосей…» Тут уж я не смог сдержать своего любопытства и задал раздосадованной женщине вопрос: «Тетя экскурсовод, а какие у лося яички?»
Некоторые вещи запоминаются на всю жизнь. Воспоминания детства сотканы из таких случаев, приключений, мироощущений, мыслей и поступков. Становление человека как личности, его привязанности, настроения, нравственные ценности – не прерогатива зрелости. Человек формируется до шести лет – по этим первым детским впечатлениям он и проецирует свою дальнейшую жизнь. Конечно, существует судьба, не зависящие от человека обстоятельства, но то, что заложено в нем в детстве, – остается неизменным… Мне повезло. У меня было счастливое детство. И удивительно чуткая детская память. При разговорах с родителями, встречах с дядями и тетями, воспитательницей детского сада Марией Ивановной, помнящих в образах и красках многие связанные со мной происшествия, все снова встает пред глазами, как будто это было вчера: «Что мы умело, надежно растратили, что бы хотели вернуть?.. Тусклый ночник в круглосуточном садике, только не страшно ничуть. Дружно пищат топчаны деревянные, если шалят малыши!.. Жаль, что относится Марья Ивановна в садике к людям большим».
Хорошо думается-сочиняется, когда проходишь улицами детства. Укладываются в стихотворный размер шаги по городским тротуарам и дворовым площадкам. Осыпается желтый дубок на дорожки детсада. Шуршит листва в скверике «музейского» парка, где раньше, до установки на набережной, красовался памятник Петру I. И вот еще одна история о музее. Правда, уже из моей армейской коллекции.
Как-то повел я в краеведческий музей солдат – военных строителей. Контрамарки школьные у меня давно закончились, поскольку лет мне было далеко за двадцать, но военнослужащим полагалась скидка. Такие культпоходы я, тогда замполит военно-строительной роты, базировавшейся в Петрозаводске, устраивал ежепризывно. Подходя к заветным колоннам, увидели табличку «Закрыто на ремонтные работы». Как закрыто? Заранее звонил, договаривался. Поинтересовался у первого попавшегося на глаза ремонтника о причинах неожиданного аврала. Оказывается, «гнездившиеся» под куполом музея лоси проломили своей рогатой тяжестью старые переборки и, увлекая за собой балки, монеты, прялки, каменные топоры и прочие экспонаты, очутились совсем в другой экспозиции – под знаменем и лозунгами Великого Октября… Ремонт, как водится, затянулся. За время реконструкции канул в Лету Советский Союз. В середине 90-х годов здание музея стало принимать очертания храма. И уже в 2000 году собор Святого благоверного князя Александра Невского освятил патриарх Алексий II.
Коллекция историй оказалась долговечнее коллекции монет. В классе пятом или шестом, накопив изрядное количество «дублонов» и «пиастров», я – по примеру героев своих любимых пиратских романов – пересыпал звонкое сокровище в мешочек и спрятал его в куче битого кирпича за дворовыми гаражами. На дворе была осень, потом, как всегда совершенно неожиданно, наступила зима… Туго пришлось бы пиратам с острова сокровищ зимой в наших северных широтах. Вот и мою кирпичную кучу засыпало снегом и так стянуло морозом, что я волей-неволей «охладел» к монетному кладу… По весне, разобрав по кирпичику наконец-то оттаявший «остров сокровищ», я собрал свое мелкокалиберное богатство в жестяную банку и обменял на несколько удивительных книг. Среди моих первых приобретений оказались: Герберт Уэллс, «Двенадцать стульев», «Золотой теленок» Ильфа и Петрова, трехтомник Николая Носова и «Дон Кихот» Сервантеса – кладезь моей юношеской библиотеки…
А в ту долгую «пиратскую» зиму, чтобы не ходить караулом вокруг заснеженных гаражей, я нашел себе новое хобби – стал филателистом. Выпросил у двоюродного брата альбом с марками, начал собирать серию «Искусство»: картины, скульптуру и другие горшечно-прикладные поделки. Со временем четыре любовно проложенных калькою альбома пополнились миниатюрными шедеврами Репина, Федотова, Саврасова, творениями мастеров эпохи Возрождения.
Будучи уже взрослым человеком, в Санкт-Петербурге, Москве, Флоренции я лишний раз убедился в пользе этого созерцательного собирательства: я видел многие художественные сокровища человечества задолго до посещения знаменитых музеев – на почтовых марках, особенно это было заметно во время путешествия по Италии: «Капеллы Сикстинской божественный кров, двор Медичи, площадь Сан Марко – явилась воочию страна мастеров, знакомая с детства по маркам...»
Увлечение марками было повальным! Важный продавец магазина «Филателия» кивал ребятам с нашего двора как старым знакомым. Но не делал никакого снисхождения при продаже объединенных серий, когда паровозиком за Микеланджело или Рембрандтом шли бабочки, самолеты, пароходы и летние Олимпиады. Зато при очередном сборе «клуба филателистов» в соседнем подъезде эти довески обменивались по интересам, и я приобретал нужные мне произведения искусства… После моего возвращения из армии я узнал, что мой десятилетний братишка – доморощенный «искусствовед» – на манер игры в фантики, накрывая одну марку другой, в том же подъезде проиграл мою лучшую графику… С досады я забросил все мои осиротевшие альбомы на самую верхнюю книжную полку! Так я перестал собирать марки – и, дотянувшись, достал с полки томик Есенина...
Определенно, настоящей моей страстью были и остаются книги! Я был записан в нескольких городских библиотеках. Прочитывал по пять толстых книг за неделю. Был постоянным читателем домашних библиотек своих друзей и знакомых. Просчитав свои капиталы и возможности, я сделал план-карту книжных магазинов Петрозаводска, чтобы планомерно в течение месяца обходить святые для истинного книгочея места… О, какое это было блаженство – найти под спудом букинистических развалов нечаянную книгу или оказаться у прилавка как раз к моменту новых книжных поступлений! Купленный томик, в зависимости от содержания, будь то исторический роман, рассказы Чехова или повесть-сказка, становился в ряд с такими же тематическими произведениями по одному мне известному порядку. Стоя спиной к книжному шкафу, я мог назвать по счету любую книгу, рассказать, о чем в ней говорится, и перечислить ее ближайшее славное окружение. Я собирал книги трудно, хлопотно, вожделенно. Порой это походило на то, как выбирал и оглаживал кирпичи, купленные на Рождество для строительства собственного домика, кум Тыква. Книги-кирпичики занимали свои места на полке, в моем собственном мироощущении, в безмерно благодарном сердце: «Наивная романтика – бездонная казна! Здесь Тихий и Атлантика, полет и глубина. Здесь под рукою зыблется живое серебро: Сервантес, Киплинг, Стивенсон – Отвага и Добро!»
С каждым годом книг в моей библиотеке становилось все больше и больше, а времени, чтобы их прочесть, все меньше и меньше. Оглядываясь на прожитую жизнь, угадывая смутные чаемые очертания предначертанных мне свыше лет, искренне огорчаюсь тем, что мне никогда не успеть прочесть всех книг, купленных мною после детства...
А в двенадцать лет, благодаря своей начитанности и просветительскому упорству, я подвиг и своих родственников на повышение личной литературной образованности. Правда, по мере их скромных возможностей. Бабушка Аня, работавшая буфетчицей в Музыкально-драматическом театре, непременно покупала мне книги во время обслуживания партийных пленумов и профсоюзных конференций, проводимых во владениях богини Мельпомены. На такие мероприятия из закромов специальных магазинов доставляли настоящее книжное «золото». Так в моей библиотеке появились романы Купера, Киплинга, Стругацких. Зато бабушка Оля, любившая путешествия, но постоянно путавшая понятия «полезная» и «хорошая» книга, привозила мне из дальних странствий то «Путеводитель по Молдавии», то «Справочник охотника-рыболова»…
Бабушке Оле прощалось многое. Она продавала мороженое в кинотеатре «Сампо». Так что бесплатные мороженое, широкоэкранный просмотр и лечение воспаленных гланд мне были обеспечены. Кроме того, можно было выпросить у бабушки несколько трехкопеечных монеток и в компании увязавшихся за мной друзей-киношников запить «здоровские» впечатления холодной газировкой, автомат по выдаче которой находился на углу нашего гастронома… На условный стук и секретный пароль «Это внук бабушки Оли!» открывалась дверь служебного входа, и под рукой строгой работницы кинотеатра следом за мной проскакивали пара-тройка дворовых пацанят, навострившихся совершать подобные маневры, играя в ромбики и казаки-разбойники… На школьных каникулах родители, перед тем как пойти на работу, сдавали меня бабушке на целый день. Целый день я ел мороженое и смотрел один бесконечный фильм, поставленный на все сеансы. Но чего не сделаешь ради сборника мультфильмов, обязательного спутника Планеты Каникул! Советские мультяшки – бриллианты в миллионы каратов! – шли в 10 и 13 часов. «Внуки бабушки Оли» с замиранием сердца ждали, когда в зале погаснет свет и на экране появятся любимые мультипликационные герои: Винни-Пух и Чебурашка, Малыш и Карлсон, Кентервильское привидение и лев Бонифаций, Витя из Страны невыученных уроков и Вовка, побывавший в Тридевятом царстве, Варежка и Умка, Дюймовочка и принцы-лебеди. На целых полчаса мы погружались в счастливую сказку, в основе которой зачастую была хорошая детская литература: «Бросил Андерсен в порыве в воздух белое перо!.. Жаль, что огненной крапивы не хватило на крыло…»
На отлете брежневских времен в Парке пионеров проводились лотереи подписных изданий. Все желающие вставали в длиннющую очередь за номерками, дающими право поучаствовать в розыгрыше дефицитных многотомников классиков и современников. Однажды я поставил в очередь своих дорогих бабушек. И при оглашении выигравших номеров победил номер, оказавшийся как раз между двумя воркующими кумушками: хотя его там не стояло!..
В следующем розыгрыше участвовали все мои многочисленные домочадцы, включая круглощекого братишку – смышленого подвижного бутуза. Брат отрабатывал ежедневную сказку, которую я ему читал перед сном. Но счастливый номер оказался в моей руке! Так в нашей семье появился четырехтомник Виктора Астафьева.
Кстати, маленький братишка был не первым полусонным слушателем моих «спокойной ночи, малыши». Будучи воспитанником круглосуточного детского сада, дождавшись, когда дежурная нянечка закроет за собой дверь спальной, оставив для полной таинственности тусклый синеватый ночничок, я рассказывал нетерпеливым одногодкам необычайную историю, историю с продолжением. Сидя на подушке, как в кресле волшебника, я призывал в помощники все свое воображение, переплетая и сталкивая в забавных, невероятных сюжетах известных книжных и мультяшных персонажей… Быть может, из этих детсадовских выступлений и выпросталась моя способность к сочинительству: «Не проживешь те мгновения заново, то замиранье души… Но остается Марья Ивановна все человеком большим. Двери закроются за воспитателем: полнится сказками сад!.. Нянечка щелкнет в ночи выключателем: все ее деточки спят…» И нередко мои придумки росли за соседним забором.
Да, никогда больше не было у меня такой уверенности в себе, как в дошкольные годы! Уверенно я мог забежать в крапиву или соскользнуть с мокрой доски, брошенной через глубокую лужу, уверенно говорил, произнося все шипящие через букву «с». И мыслил благодаря прослушанным первым детским сказкам и просмотренным мультфильмам вполне самостоятельно. Мог часами сидеть у ящика с игрушками, обыгрывая с пупсами и кубиками известные только мне одному представления о жизни. Я не боялся чужих дворов и хулиганов. Мог запросто прыгнуть с высокой сарайки в сугроб между двух поленниц или забраться по шаткой лестнице на крышу двухэтажного дома. Играя в войнушку, не отступал перед противником из подготовительной группы детского сада, подняв с земли длинную увесистую палку. Разобравшись с подготовишками, я смело забирался на детсадовский забор, за которым находились грядки и клумбы пришкольного участка, и вместе с другими малышами кричал копошившимся в земле школьникам: «Пионеры юные – головы чугунные, сами оловянные, черти окаянные!» И мне было совсем не больно, когда коварные пионеры, подкараулив меня на участке, надрали мне уши и запихали в штанишки только что сорванный со школьной клумбы букетик цветов. А потом милостиво позволили «удрать» от них через лаз под забором. Утерев кулачком слезы обиды, я все равно подарил слегка помятые маргаритки Марье Ивановне.
Я не боялся никого и ничего, я восхищался жизнью! Рядом были папа и мама. Рядом были справедливость и сила Советского Союза, вместе с которым и я, нарядный, с красным бантиком на груди, встречал 100-летие со дня рождения Ленина…
Сейчас многого нет рядом. Исчезла Великая страна. Ушла эпоха. Снесен бабушкин кукковский дом. Разрушен кинотеатр «Сампо»… Сейчас я самостоятельный, сильный, образованный мужчина – становлюсь все более осмотрительным, мудрым, общественным, все более… сомневающимся в себе человеком. Сопоставляя себя с окружающим социумом, я все более убеждаюсь, что неуверенность общества определяет его разумность. Осторожность. Государственность. Скрытность. Живучесть… Кто бесстрашно, весело, ухарски уверен в себе – не владеет разумом, сиречь – смел, уязвим и беззащитен, как рожденный для первого, второго, третьего и последующего самостоятельного шага в неизвестность, не боящийся говорить правду малыш… Но зачастую присутствие детской непосредственности, творческой фантазии и некоторого житейского опыта укрепляют веру в собственные силы! Охваченный писательским замыслом, прокручивая в голове новую стихотворную строку, я снова превращаюсь в мечтательного мальчишку, глядящего поверх давно открытой страницы: «На белый лист ложится стих, на припечь – каравай: найдется в памяти для них и соль Земли, и – край…»
Поэтическое вдохновение – вот что сравнимо с умением читать книги полями! Это упоительное, ни с чем не сравнимое чувство подарили мне детские годы – скользнув взглядом по обрезу прочитанной страницы, уноситься мыслями вперед завершенного действия, придумывать свое продолжение и окончание захватившего меня сюжета! И нередко концовка придуманного мной приключения была веселее и неожиданнее авторского замысла. И было немножечко досадно, что этими удивительными способностями – вклинивать свои собственные фантазии в тесные рамки предложенного повествования – не с кем было поделиться. Родители были заняты своими делами. У редких школьных и дворовых товарищей мой «театр у микрофона» не пользовался спросом. И, наверное, поэтому я начал кое-что записывать в тонкую трехкопеечную тетрадь, куда-то потом запропастившуюся…
И все же кое-что осталось. Во второй, третьей, четвертой тетрадке. В трех моих собственных книжках. В разговорах с сыном… С рождением сына у меня появился даже свой собственный сказочный герой – Пупи-Друпи. Приключения с продолжением этой смешной тряпичной куклы с характером бесстрашного дворового мальчишки я рассказывал по дороге в садик или на дачу своему подрастающему малышу. О содержании этих уморительных историй знаем только мы вдвоем…
Остался Пупи-Друпи. Осталась романтика семидесятых… Я жил прочитанными книгами, а книги продолжают жить во мне. Умение переиначивать известные истории на новый лад переросло в потребность писать самому. Мечты и фантазии – суть творчества, погружение в бескрайний океан чувств и волнующих образов, объединяющее многих и многих пишущих и ждущих их литературных трудов людей: «И за что не будет стыдно, что не растерял – все по строчкам будет видно, скрепам бытия».
Была еще одна волнующая хрупкая ценность детства – домашние пластинки… Появились они в моей жизни не сразу. Первый проигрыватель, который приоткрыл для меня двери в неведомое, стоял в музыкальном зале круглосуточного детского сада. Запомнилось священнодействие воспитателя, когда после ужина мы, оставленные на ночь дошколята, рассаживались на маленьких скамейках и Марья Ивановна, поставив новую пластинку, совмещала голоса артистов с прокручивающимся на стене диафильмом.
Фильмоскоп с пластинками… Удивительная пора детства! Все в ней происходит впервые: первая улыбка, первый шаг, первая игрушка. Каждый день ты узнаешь что-то новое, важное… или вляпаешься в такое… взять хотя бы историю, когда мне подарили первый ручной фильмоскоп.
А началось все с того, что в возрасте трех с половиной лет я провалился в уличный туалет. Провалился не один, а с Сашкой Зассыхой. Сашка – наш сосед по дому на улице поэта Некрасова, долговязый восьмилетний мальчишка – ходил в первый класс, но до сих пор умудрялся прудить в штаны. Оттого, видать, его и прозвали Зассыхой. Как ни смотрела за мной бабушка Паша, в чьей скромной квартирке под лестницей мы тогда и обитали, я все-таки убегал на второй этаж к своему старшему дружку. Сашка мне приглянулся тем, что мог ловко ловить тараканов, в большом количестве водившихся в ящике его кухонного стола… Так вот, в один солнечный воскресный денек устроили мы с Зассыхой танцы на щитах выгребной ямы. И при очередном батмане крышки «сцены» разъехались в разные стороны. В отличие от того, что плавало вокруг, и Сашки, которому это было по грудь, я сразу ушел на дно… Вытащил меня из этого приключения папа, заслышав Сашкину иерихонскую трубу. Целого и невредимого.
Очистили меня, отмыли, отполоскали, от Сашкиного влияния оградили, а от дизентерии не уберегли… Попал я в инфекционную больницу. Палата на десять коек. Таблетки, уколы, горшки, анализы – это неинтересно. Интересны были ребята, с которыми, благодаря известным обстоятельствам, мне довелось пообщаться. У каждого была своя история, ну, не болезни, конечно, а – приключенческая. Из книг, фильмов, рассказов взрослых. И очень уж нас тогда занимала одна тема – про лунатиков. Мальчишки наперебой рассказывали случаи, происшедшие с их знакомыми. И по карнизам-то люди ходят, и по веревкам, и по перилам мостов. Потом и в нашей палате чудеса происходить стали. То один, то второй пациент среди ночи меж коек бродят, тумбочки задевают. А утром, хоть убей, ничего не помнят! Лунатизм, оказывается, – штука заразная. С мылом не отмоешь. Ну, думаю, теперь и моя очередь настала лунатизмом болеть! Проснулся среди ночи, ноги с кровати скинул и сквозь слегка прищуренные глаза вижу – не спит кто-то, на меня смотрит, ждет, что дальше будет. Я встал, походил туда-сюда вокруг кровати с поднятыми руками, на манер медведя в цирке, и спать завалился. Утром сюжет о моей уникальной ненормальности в ребячьих новостях прозвучал одним из первых! А тут еще мама с папой мне фильмоскоп ручной через приемный покой передали: купили-таки, не забыли о моей мечте детсадовской! Теперь, кроме до дыр зачитанных больничных книжек, был у нас настоящий маленький кинотеатр. Серый, гладкий, с трубкой для просмотра. Совсем-совсем ручной! Бери его в руки, как маленького зверька, вставляй диафильм, смотри в трубку и крути, крути колесико… Как это здорово – хотя бы одним глазком заглянуть в тайну Золотого ключика или во дворец Снежной королевы! Фильмоскоп с коробкой диафильмов переходил от кровати к кровати и на ночь возвращался в мою тумбочку. Для сохранности, мало ли кто пленку порвет али колесико открутит и потеряет. Но одного «лунатика» мы все-таки прозевали. Мальчишка, привезенный откуда-то из района, ночью вытащил из моей тумбочки коробку с диафильмами и… слизал сладкую краску со всех бесценных сказочных пленок. На следующий день хнычущего «сладкоежку» с коликами в животе перевели в отдельный бокс. Поделом, конечно, но смотреть в чудо-трубку было уже нечего… Через две недели меня выписали домой. А «заразный» фильмоскоп пришлось оставить в больнице.
Дома было хорошо. Дома было радио. Телевизор «Рекорд». Целая стопка детских книжек и ящик с игрушками… Однажды, играя в бабушкиной кухне в «милисейских» и «спионов», я посадил в тюрьму хитрого «претупника» Буратино. Баба Паша пришла из магазина, затопила печь и вскоре почувствовала – пахнет жареным. Заглянув в духовку, она достала оттуда закопченную деревянную куклу. То был мой бедный Буратино. На этот раз он не смог проткнуть своим длинным любопытным носом печную дверцу… Меня не ругали – мне посочувствовали. И обещали, если я больше не буду «наказывать» свои игрушки, отвести меня в «Детский мир» и купить новую куклу… Спасибо, папа, спасибо, мама! Спасибо за фильмоскоп, за Буратино, за торт «Сказка» на такой желанный, такой редкий День Рожденья! Спасибо за год, за день, за минуты подаренного мне счастья! Завтра надо будет безропотно съесть кашу и выпить чашку чая. Прослушать «Пионерскую зорьку». Успеть в садик, в магазин за новыми сандалиями, в бабушкин театр на премьеру детского спектакля… Успеть сказать слова благодарности родным, горячо любимым людям – при жизни…
И вновь в мой рассказ врывается цоканье виниловой пластинки… Первый домашний проигрыватель я увидел в доме маминой сестры тети Аллы. Семейные застолья чаще всего сопровождались песнями «Черемшина», «Наш сосед» и «Мне нужна жена». Как я потом узнал, последняя песня – Александра Градского на стихи Роберта Бернса. Как так! У кого-то есть сосед, есть жена, а у нас даже проигрывателя нет! Тут уж я насел на родителей основательно, и они купили «Кантату» на длинных лакированных ножках. «Кантата» ловила все нужные мне радиоволны и могла с любой скоростью раскручивать взрослые пластинки. Само собой разумеется, первым делом папа и мама принесли из музыкального магазина пластинки на свой выбор: Мария Пахоменко, ВИА «Самоцветы», Эдита Пьеха, Муслим Магомаев, Львы – Лещенко и Барашков. И не было в этой пестрой стопке только запомнившегося мне с 70-го года Валерия Ободзинского…
Впервые я услышал песни Валерия Ободзинского после памятного перелета, когда все наше семейство около двух часов тряслось на «кукурузнике» между Петрозаводском и Питкярантой. Мы спешили на свадьбу папиного брата дяди Славы в поселок Салми. Тягостные впечатления от воздушной болтанки скрасили удивительные мелодии и чарующий голос артиста, идущие от клубного проигрывателя, установленного временно в дядином доме: «Восточная песня», «Эти глаза напротив», «Письмо», «Карнавал». Эти пластинки стали для меня – тогда шестилетнего пацаненка – настоящим откровением. Как душевно и красиво можно соединить голос, текст и музыку в одном небольшом по звучанию произведении! После я узнал, что в начале 70-х Ободзинский был запрещен и вскоре ушел с эстрады. Пластинки его перестали продаваться. В 90-х годах он вернулся к своим слушателям благодаря любви одной женщины, вытащившей его из небытия какой-то сторожки. Валерий снова запел, не потеряв своего уникального голоса. Записал несколько альбомов. И даже собирался приехать с концертом в Петрозаводск вместе с Тамарой Миансаровой. Но – перед самым выступлением у него внезапно остановилось сердце. Билеты в кассу филармонии никто возвращать не стал…
Помимо запрещенного Ободзинского не водились в нашем доме пластинки «Битлз» и советских бардов. Об их существовании я узнал уже после окончания школы. Сказывался «циркулярный» круг моего подросткового общения. По телевизору и радио Леннона и Визбора не передавали. Не говорили о них во дворе и в классе. Зато на слуху были «Четыре танкиста и собака», «Неуловимые мстители», «Радио-театр», «В стране литературных героев», «Клуб знаменитых капитанов». По рукам шли книги Джека Лондона, Фенимора Купера, Стивенсона, советская и зарубежная фантастика. Но прежде, конечно, сказочные повести Николая Носова, Александра Волкова, Астрид Линдгрен и Джанни Родари.
С появлением проигрывателя «Кантата» в моем доме появились новые – виниловые приключения! Потихоньку росла сокровищница домашних пластинок: «Доктор Айболит», «Буратино», «Чиполлино», «Приключения Незнайки», «Старик Хоттабыч», «Площадь Картонных часов». К сокровищу – и подход был особый. Каждый виниловый диск, вложенный в две обложки, аккуратно вынимался, укладывался на место, протирался специальной ваткой, и после проверки игла осторожно ставилась на краешек пластинки. После легкого шороха внутри полосатых колонок комната наполнялась удивительными историями, одушевленными голосами Николая Литвинова, Валентины Сперантовой, Алексея Консовского, чудесной музыкой и доброй шуткой.
А еще были советские киносказки. Нынешних детей, воспитанных на «Гарри Поттере» и «Властелине колец», не удивишь наивной Бабой Ягой или добродушным Морозко. Но после просмотров сказок Птушко, Фрида, Роу смешные фразы и узнаваемые образы уходили в народ, и можно было узнать человека своего поколения по емким и зримым выражениям сказочных персонажей: «Ты естеством, а я колдовством», «Надену свою шубейку и пойду в лес замерзать», «Что я в своем царстве-государстве не знаю?», «Ты должен быть счастлив, что тебя съест правительство!», «Не принцесса – королевна»… Первый раз, когда мне не было и пяти лет, я смотрел фильм-сказку Александра Роу «Огонь, вода и медные трубы» в кинотеатре «Строитель» на Старой Кукковке, недалеко от которого мы и жили. Потом родители купили телевизор «Рекорд». Уже на новой квартире поменяли «Рекорд» на «Весну». Правда, стоял телевизор в комнате родителей. И только один раз «Весна» поменяла свой обжитой угол, чтобы попасть в мою следующую историю…
Телевизор перенесли в мою комнату на время ремонта. Родители, чтобы не гонять по квартире пыль, закрыли все комнатные двери и, по-видимому, улеглись спать. А время было где-то около одиннадцати часов вечера. Проходя мимо скучающей «Весны», я, конечно же случайно, включил квадратную кнопку на телевизионной панели и… сел на кровать с открытым ртом. Темой очередного выпуска передачи «Очевидное-невероятное», идущей в столь поздний час, была природа смеха. Так я впервые увидел отрывки из фильма Леонида Гайдая «Деловые люди» по рассказу О. Генри «Вождь краснокожих». Природа моего дикого захлебывающегося смеха переполошила родителей и наверняка разбудила соседей. Вбежавшая в детскую мама подумала, что меня убивают. А я смеюсь, безумно тыча пальцем в мерцающий экран. Полчаса я не мог успокоиться, схватившись за живот, катался по полу. Еле-еле, обесточив черно-белый источник моего хорошего настроения, израсходовав графин кипяченой воды, папа и мама привели меня в чувство… Нащупанная Капицей тема передачи, замечательная игра актеров Алексея Смирнова и Георгия Вицина – разбудили дремавшую досель природу моего смеха, впоследствии облаченную в форму и стиль моих будущих негрустных рассказов. Несколько гайдаевских отрывков, показанных в передаче, основанных на хорошем художественном материале, подарили мне встречу с шедевром мирового кинематографического искусства, стали настоящим открытием моего второго «я», исполненного самоиронией и добрым юмором, послужили толчком уже недетского творческого сознания. Воистину, очевидное-невероятное… Многими годами позже, читая Стругацких, натолкнулся на строчку, в которой один из героев раскрывает свое жизненное кредо: «Ирония и Жалость». «Ирония и Жалость» – единое противоречие человеческой натуры… А что бы я вывел девизом своей жизни? Какие слова ярче, точнее всего ложатся на сердце, когда я оглядываюсь на пройденный путь?.. И, как ни крути, все сводится к двум негромким словосочетаниям: «Мягкий Юмор и Ненавязчивая Мудрость».
В школе я задавался вопросом, что бы я взял с собой в дальние края в случае каких-нибудь непредвиденных обстоятельств: книгу, марки, любимую пластинку? И оказалось, что таких драгоценностей набрался целый чемодан. И здесь я ясно осознал, что ни одна отобранная драгоценная вещь не пригодится мне в дороге и неподъемный чемодан будет досадной обузой… Все самое дорогое – остается в сердце.
В окружении разложенных по полочкам сокровищ я забывал о скуке, нудной учебе, дворовых обидах. Я был не один. Со мной были Дон Кихот и Мальчиш-Кибальчиш, Гулливер и Одиссей, Том Сойер и Джим Хокинс, Чиполлино и Мальчик-звезда – удивительный мир домашних пластинок, живописных марок, мудрых книг и добрых кинофильмов, от которых я не ждал подвоха, назидания и тумаков. Я учился у них слушать и принимать добро внешнего, необыкновенного, мудрого, бегущего по виниловым царапинкам, открытым страницам, полотнам Айвазовского стремительного круга жизни, чувствуя постепенное слияние двух огромных миров – детского и взрослого. Через эти круги и миры мы проходим разными дорогами, увлеченьями, судьбами. И важно – не растерять в пути восторженных ощущений детства: «Через радуги, площади, реки, сколько будет планета вертеться! – сквозь устало прикрытые веки – возвращайтесь на улицы детства!»
ВРЕМЯ ЖИЗНИ
Приходит зрелость. В сорок пять начинаешь ощущать свой возраст, непокоренные вершины, болячки… Зрелость – это еще одно необходимое, драгоценное время жизни, которое состоялось благодаря действию целительного сиропа детства, когда, глотая содержимое заветного пузырька, зажмуриваешь глаза и снова возвращаешься к нестареющим чувствам и запахам окружающего мира. Наверное, поэтому промелькнувшие мальчишеские годы кажутся одной долгой длинной дорогой, по которой, как в замедленном кино, движутся люди, дома, события… И редкие остановки – посещение лесной чащи или тихого озера – врачуют Душу, позволяя освободиться на время из цепких жизненных обстоятельств.
Завораживает взгляд, замешивает лечебное снадобье на алых ягодах и белых мхах карельская тайга. Будто древняя таинственная сила подняла лес в высокое Небо, прочно сплетя его корни с Землей. В разные времена года лес увлекает извилистой лыжней, пением птиц на вешних болотах, летней прохладой, грибной осенней сыростью… Осенью, когда умирают листья, холодят сумерки и согревают краски, настаиваются настоящие чувства. В эту пору они по-особенному жгутся, не раня кожи, не жалея горла. В эту пору обостряется ощущение уходящей жизни... И, как рыбий жир в болезненно-чутком детстве, как госпитальную микстуру в застуженной караульной юности, как дух сосновой коры, я пью из ложечки – осень. Горько. Жизненно. Незабвенно...
Однажды темным сентябрьским вечером на даче я наблюдал над кромкой дальнего безмолвного леса необычайное природное явление – Белую Радугу. От линии серого горизонта она была отделена ровным черным полукругом, сверху – венчалась серебристой мерцающей короной. Вдруг венец дрогнул и – ввысь устремились косые, прямые, острые лучи! Взвились пики, полетели стрелы! Словно приоткрылась дымная печная заслонка. Свет наполнял звездное небо мерцающей, наползающей на сентябрьскую тьму белой огненной сферой, вбирал и смешивал бьющие в густую черноту лучи. Клубящееся жаркое свечение достигало середины небесного свода. Иногда из переливов нежной парной дымки выпрастывался ухват Большой Медведицы. И казалось, будто в гигантской вселенской печи печется белый горячий хлеб будущего солнца. Жар вырывался наружу, видение пузырилось и брызгалось, дышало чудной пленительной силой! Перебегая к левому и правому концу полукружья неровными щетинистыми всполохами, свечение остывало. Наконец, охладившись, затвердело пышной полосатой сдобой на черной звездной скатерти ночи. Таким вот сахарным, облитым сладкой патокой караваем выходит из духовки Бога – Северное Сияние!..
Живая Земля. Недолго осталось спать в белом теплом тумане берегам и дорогам. Ощущая стылое предзимье, Земля дышит, ухает зелеными кругами по зыбким карельским топям, глотая камни, заваливая сушины. Теряются в болотной ряске скользкие замшелые гати… В глухую осеннюю пору мне кажется, что я снова бреду по краю исчезнувшей дороги. Сделав крюк до сухого безжизненного островка, возвращаюсь назад, теряя силы, погружаясь по пояс в черную дрожащую жижу, пытаюсь обойти неоглядное дышащее пространство по топкой опасной дернине и – только кружу, кружу болотом, отчаявшийся, пустой, заблудший… Ночью на воде появляются звезды. Днем они тонут в серой облачной зыби. Ни звука, ни эха… Сколько еще сможет прижимать к груди любимого, неразумного ребенка Мать Сыра Земля?.. Ах ты, дыма сыть, сухарей мешок! Не бойся идти своей дорогой. Не важно, короток или длинен будет твой путь, важно – осознание пути и готовность проделать его до предначертанного тебе срока… До вешки, до кромки леса… Дорога – это пояс Земли, и иногда его расшивают звездами, чтобы не потерять Неба…
НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО
Смутное время России. Прорицатели и кликуши все время назначают новую дату всемирной катастрофы. Ледники ползут. Комета приближается. Просыпаются вулканы. Накатывает цунами. Смещаются земные пласты. Потепление. Похолодание… Недавно Пулковская обсерватория объявила, что вскоре Земля покроется толстым ледяным панцирем и уже в 2014 году в Сахаре ляжет метровый слой снега… В ожидании конца света, запутавшись в сроках и предзнаменованиях, закопавшись в газетных вырезках, популярных сайтах, телевизионных интервью – многие не доживают, пропуская очередную премьеру фильма-катастрофы, объявление по радио или метеорологическую сенсацию из-за банальной земной кончины… Как ни крути, а выходит, что «конец света» у каждого свой… У меня нет ни малейшего желания заглядывать за тот предначертанный неизбывный рубеж… Хочется лишь ненароком приоткрыть страницу, взглянуть одним глазком в завтрашний день, надеясь только на свои силы и опыт, хочется успеть осуществить свои сокровенные мечты… Как не хватает мне сейчас близких людей! Отца. Мамы. Бабушки Ани. Не хватает их мудрости и беззаветной любви. Гадая на картах на любовь, на работу, на мечту, бабушка лишь ненавязчиво утверждала меня в правильности выбранного пути, отметала сомнения, успокаивала житейские страсти. Бабушка ждала меня всегда. Утром. Днем. Ночью. Будь то мои многомесячные пребывания в детских оздоровительных лагерях и санаториях, годы срочной службы или долгие командировки в стройбате. В своих письмах ко мне она находила самые теплые и нужные слова, а в трогательно свернутом уголочке я неизменно находил аккуратно сложенную трешку. Она ждала меня, как ждут родную душу, пред которой нет тайн и недомолвок. Вечера-откровения, за чаем и непременными пирогами, затягивались за полночь. Бабушка рассказывала мне о том, как ее семью, родителей, трех сестер и маленького брата, сослали в Карелию за то, что дедушка – зажиточный вологодский крестьянин – не сдал продналог. В местечке Орзега, где сейчас находится родительская дача, в 30-е годы 17-летняя девчушка Анечка Беляева валила лес на лесоповале. Во время войны семью эвакуировали на Урал. Там в 1944 году ее и нашел мой дедушка Михаил Мошников – инвалид войны, которому болезнь оставила еще 15 лет жизни. Было все: и нужда, и оговор, и потеря близких людей. Была и радость материнства, и любимая работа в театральном буфете. Жаль, что душевных откровений было так мало ввиду извечной занятости нашей… В один из таких вечеров бабушка рассказала мне историю про сапоги, тронувшую меня своей простой житейской глубиной.
Бабушка, милая, полною меркою
Жизни отведала ты пироги…
Первой в деревне была пионеркою,
Дали на слёте тебе сапоги.
Долго потом любовалась обновою:
Ай да сапожки – изящны, легки!
Не по селу бы ходить за коровою…
Да записали отца в кулаки.
Версты – не обувь удобную мерили.
Мерзли в опорках с отцовской ноги.
Семьи крестами осели в Карелии,
А всё равно оставались – «враги».
Бабушка, милая, память неверная –
Все ли оплачены нами долги?..
Первой в деревне была пионеркою.
Дали на слёте тебе сапоги.
Люблю пересматривать бабушкин альбом. На оборотах старых пожелтевших фотографий еще можно различить драгоценный, канувший в небытие вместе с изображенным на снимке человеком – почерк. Неумелые, трогательные стихи: «Помни иногда, чем никогда»... И удивительно, как в одно мгновение эти наивные, искренние слова подсвечивают черно-белый фон, выразительные красивые лица молодых родителей, бабушек и дедушек. И моих горячих щек, увлажненных глаз и осторожных пальцев касается робкое дыхание их неушедшей юности, непроходящее очарование родственных душ. И все мое взволнованное существо не оставляет чувство, что оно здесь, в комнате, в прочитанных книгах сына, в любимых игрушках внучки, на страницах семейного альбома, оно никуда не исчезало, это сильное, никогда не стареющее чувство – любви.
За уличным окном термометр закапал.
Не отрывая взгляда от окна,
Я видел – чистая – шкалу ломала капля:
Ну, наконец-то, Господи, – весна!
Не заведет постылую волынку
Метельный снег, стеная и моля...
Под стать весне – в дареную бутылку
Сливала рюмки бабушка моя.
И недопитых слез не оставалось,
И было что в шкафу на черный день.
Присев на лавочку, щеки моей касалась,
Рукой со лба отбрасывала тень,
Все говорила: «Редко навещаешь.
Вот-вот отмаюсь: вспомнишь ли когда?»
И сколь горючих слез ни утираешь –
Все горестней соленые года.
Отгостевало в доме утешенье:
Мгновенны лета, сумерки длинны…
Остывшие чаи прощанья и прощенья
До замиранья сердца холодны.
И разговор на кухне затихает.
И ничего не надо обещать…
И в вешнюю капель заболевать стихами,
И между строк прощаться и прощать.
…Предъявив свидетельство о смерти и домовую книжку, получил последнюю бабушкину пенсию, заработанную за долгий вдовий век, которой едва хватило на еловый венок и пару конвертов, всунутых, вместе с распиской, в узкое почтовое окошко. На сдачу... Вот и всё. Всё, что причиталось бабушке Ане за годы лишений, ссылки, войны, эвакуации. За все пережитое бабушкой, страной в годы, когда по злому оговору примерила она серые тюремные одежды. Потеряла мужа. Пережила детей...
Как прекрасно она знала людей! Сопоставляя разные судьбы, раскидывала карты и – легонько подталкивала мудрым ласковым словом друг к другу пылких молодух и завидных женихов.
Прошел первый сентябрьский дождь. Нагрудный карман рубашки оттопыривают свернутые в трубочку бабушкины конверты... Я напишу! Напишу тебе, бабушка, историю не узнанной, не увиденной тобой жизни! Все сбудется. Уйдут худые карты. Червонная дама возьмет за руку бубнового короля... Проступят на опавших листьях строки этого долгого неровного письма.
На даче времени с избытком.
И дождь не кончился пока.
На полке найденной открыткой
Моя взволнована строка –
Чей это круглый ровный почерк?
И удивленно вижу – мой…
Свою открытку, не на почту,
Отнес я бабушке домой.
И положил ее с надеждой
На стол, где книга и очки:
Бабуля, – выведено нежно, –
Ты о любви моей прочти!
Словам любви в открытке тесно,
И многократно посему
В щеки морщинистое тесто
Уткнулся с носом поцелуй!
И снова маленький проказник
Читает, выпятив губу,
И веселит семейный праздник
Твою осеннюю судьбу…
Под дачным пледом не согреться.
Все небо в тучах. Дождь идет…
А может – это плачет сердце
И кто-то эти строки ждет?
Как быстро схлынула весна, подкралась осень. Казалось, само время подгоняло ее на быстрине, выносило вместе с талой водой на солнечные берега пену беспечных дней, размокшие бумажные кораблики, сложенные из листов ученической тетради, щепки забытых болячек… Как скоро в зеленых, рассветных берегах отгорело лето, откипела в полях, цехах, конторах горячая работная пора. Когда еще увидим плоды трудов своих, воплощенную в детях, домах, деревьях, собранных книгах вдохновенную, кропотливую работу ума и рук, души и сердца… Путь далек… Размытые дождем дороги осыпает пожухлая листва. И мои глаза замутила дождливая пелена. Пройденного не вернешь… Появилась первая седина. Зима наступает. Все короче день, дольше и темнее вечера. Но – это еще не конец света. Свет исходит от сияния первого выпавшего снега, от благодарной памяти. Осенние дороги жизни укрывают мудрые снега… Бабушка и запыхавшийся малыш накатывают снежный ком для будущего снеговика, соединяют, прихлопывают рукавицами приставшие к липкому кому опавшие листья, зазимовавшие под снегом зеленые травинки – общие судьбы и святые надежды.
УЧИТЕЛЬ
Огорчила, очень огорчила супругу, врача санатория «Марциальные воды», сердечная болезнь ее педагога, известного в Карелии руководителя туристического клуба. Сколько интересных походов, организованных студентами и преподавателями Петрозаводского государственного университета, горных троп и дорог в экзотических местах Советского Союза прошагали они вместе… Прибыв в санаторий морозной зимой, больной и погрустневший, учитель не мог подолгу сидеть на месте: нагрузил себя процедурами, старался больше двигаться, общаться с соседями. И однажды зашел в кабинет супруги: «Поедем на Спасскую гору! Я со всеми договорился. Песен попоем…» Песен туристских он знал предостаточно и гитарой владел виртуозно… Но высок и снежен был подъем на горнолыжную трассу, которую открыл еще один его ученик-медик, а здоровье старика внушало опасение… Да любые возражения устроителем похода не принимались всерьез… Утром в выходной на двух машинах доехали до Спасской. Затем пешком. По узким тропам, крутому склону… В домике, где гоняли чаи и вострили лыжи завсегдатаи накатанной трассы, суета и оживление: «Все на гору! Там сейчас такое будет!» На самой верхотуре выстроились, снаряженные по всем правилам лыжного спорта гости – спортсмены из Москвы. Ну наверняка чудеса синхронного скольжения увидим, подивимся… Вдруг откуда-то сверху на нас навалился ураганный звук: прямо на гору шел военный самолет! Пролетев над головами ликующих лыжников, сереброкрылый красавец прошел низко-низко над ледяным озером, подняв в воздух молочную снежную замять. Взвился ввысь, раскрутил гулкую «бочку», сделал две мертвые петли и исчез в ясном морозном небе… Что это? Откуда? А оттуда – из Бесовецкого гарнизона. Командир полка истребительной авиационной дивизии – давнишний приятель владельца горнолыжного комплекса. Вот и захотел бывший студент для тренера-педагога сюрприз сделать, чтобы «сушка» во время учебного полета класс свой лихой показала, аккурат над Спасской горой… Потом было чаепитие. Обещанный концерт. Звучали то разом, то сольно – три «боевые» гитары… И удивительным, удивительным был человек, сидевший с нами за одним столом, побледневшими губами негромко, проникновенно исполнявший на походной гитаре любимые песни… Проделавший по глубокому снегу, в синих зимних сумерках путь на высокую гору, где светилось окно гостеприимного лесного домика… Попытавшийся еще раз прикоснуться золотым, мягким, разбитым сердцем к своим ученикам – дрожащим голосом, влажными глазами, лопнувшей струной…
СТРАНА ГОЛУБИНОГО ДЕТСТВА
«Последний лист осени – дождался первого снега зимы…» Так запечатлел их на холсте художник, описал на тонкой рисовой бумаге поэт, подметил фотограф, наиграл саксофонист в задумчивом регтайме. Такими их создал Бог: чувственными, близкими, земными. От сопричастности всего живого и бывшего на земле, ранимых переживаний и нежных соприкосновений – возвышается человеческая душа. Явление Господа – отлетевший лист и опускающиеся на ладонь снежинки – будут жить в веках, повторяясь и одновременно оставаясь неповторимыми – в момент именно этого тихого угасающего кружения…
Осень. Зима. Удачно схваченные фотоаппаратом картины природы находят свое красное место среди других семейных снимков… С детства, особенно будучи в гостях у многочисленной родни, не найдя для себя привычных ребячьих занятий, укрывшись в тихом уголке, любил пересматривать старые фотоальбомы. Детское восприятие незнакомых и чем-то неуловимо похожих на папу и маму «дяденек» и «тетенек» никак не связывало меня, самого по себе существующего человека, с этими погнутыми, поблекшими, застывшими картинками. Мог ли я подумать, что с течением времени фотографии многих родных, живущих вместе со мной людей превратятся в «застывшие картинки»? Неизбывная горечь утраты приходит на смену бесконечным удивлениям детства…
В детстве все казалось огромным. Маленький дворик. Узкая улочка. Яблоня за забором детского сада. Крутой спуск к порожистой обмелевшей речке. А сама река казалась океаном, увлекающим к неоткрытым островам пущенные по воде бумажные корабли. Двадцатилетние папа и мама – представлялись большими. Многоопытными. Взрослыми людьми. Бабушки и дедушки – такими пожилыми, добрыми и мудрыми, что отказываешься верить сейчас сохранившимся семейным фотографиям, на которых им не было и пятидесяти… Наверняка такими же большими и недостижимо высокими, как пятиэтажный дом и раскидистая береза за окном, любимыми-прелюбимыми бабушками и дедушками видят нас подрастающие внуки. Не наглядеться в эти искрящиеся, смеющиеся, сияющие во все небо ребячьи глаза! В эту счастливую пору отраженная в них река кажется океаном, дом – горой, береза – неохватной, папа – великаном, а жизнь – огромной!
Посещая городское кладбище, подходя к могилкам родных людей, бабушек и дедушек, мы невольно ощущаем себя малышами. И вновь, как в повторяющемся детском сне, робко озираясь, мы боимся заблудиться на незнакомых улицах, среди гигантских домов и скверов, проходя… мимо крестов и памятников, сквозь заросшие кладбищенские участки. Провинившимися, маленькими, любящими детьми мы подходим к их увитым искусственными цветами могилкам. И не кажется, а видится на самом деле, что за тихими могильными оградками деревья стали большими…
Печалится сердце о сердце, и – тут же! – всколыхнется радостью воспоминаний и застучит, застучит с прежней неуемной силой, вырывая из небытия глаза, улыбку, руки, почерк милого родного человека.
Нет-нет да загляну на Старую Кукковку. Место, где раньше стоял бабушкин дом, застолбил сосед, живущий здесь с 50-х годов. Огородничает. На 20 сотках – смородиновый куст и две высокие березы – свидетели первых шести лет моей жизни. Разговорились. Стали вспоминать. Многое мне было в новинку. То, что казалось незыблемым, крепко-накрепко отложившимся в детском сознании, в представлениях о жизни взрослого мужчины – оказалось неточным, придуманным, закутанным в цветной туман. Ложная память… Таких домов здесь не стояло, такие люди здесь не жили, а детские ясли находились совсем на другой улице… А я помню! Помню высокую голубятню посередине двора. Помню цветущий яблоневый сад за картофельным огородом. Образы, милые образы стоят перед глазами, как образ Господний на бабушкиной иконе, как фото мамы и папы на развороте семейного альбома. А бабушкины калитки? Их толокняный вкус не затмят самые изысканные блюда мира! А чернота осенних сумерек, скрывающая шумящие деревья, соседские домишки и дощатые сараи? А наш бревенчатый дом, по вечерам наполняющийся голосами, шорохами, скрипичной музыкой деревянных ступенек и щелястых половиц? А вкуснота компота из ягод черной смородины с прилипшим ко дну и краям кастрюли иззубренным листом, сорванных мамой на огороде, вкуснота, вскипевшая, настоянная на дымной дровяной печи? Это тоже ложная память? Память, опустившая мне на ладонь белое голубиное перышко…
В стране моего голубиного детства идет снег. Снег в моей стране – легче птичьего пуха. Он невесом, нежен, тепло его прикосновений чувствуешь сердцем… Этим пухом не набьют подушки олигархов. Его не пустят по ветру над мусорной свалкой, бывшей когда-то огромной страной, где хозяйничают, наводят порядок сытые чайки и вороватые вороны… Не купить, не загадить убеленных мягким небесным светом площадей и улиц. Снег в моей стране – это перья архангелов. Заснеженные замки – крыши дворовых голубятен. Облепленные перышками ладони… Шум заполнившей небо белокрылой стаи... В стране моего детства стоят белые-белые дни. В стране моего детства гуляют люди, которые покинут ее с моим последним вздохом.
Я – БУКВА «Ж»
По стечению обстоятельств меня, пятидесятилетнего отставника, призвали в «партизанскую» армию в те сентябрьские дни, когда я перечитывал «Избранное» Эрнеста Хемингуэя. По-видимому, неожиданность данного предложения и авантюрные военные перипетии американского писателя и подтолкнули меня поставить подпись в получении повестки военкомата, а затем и явиться на призывной пункт, едва успев положить в пакет зубную щетку, зарядку для сотового телефона и томик Эрнеста. Котелок, сапоги, «пятнашка», бушлат, цигейковая шапка и нательное белье были выданы конвейерным способом солдатами-срочниками. Прикосновение к коже нового, жесткого, знобкого белья возвратило мне забытые ощущения восьмидесятых – годы службы в Советской армии. Арзамасскую учебку. Казахстанский спецназ…
По прибытии в Арзамас 21 апреля 1983 года петрозаводскую команду повели в нетопленую баню. Отобрав гражданское барахлишко, проведя дезинфекцию новобранцев холодной водой, выдали – на глаз и вырост – солдатское обмундирование. После распределения по ротам началось наше шестимесячное обучение на радиотелеграфистов. «Мочить СЭС!» – средства электронной связи – к концу учебки должен был каждый обучаемый военный связист. Обучение было по-военному жестким и по-человечески интересным. До сих пор без запинки могу отстучать «на ключе» цифровую и буквенную телеграмму. Точки и тире сами складываются в забавные и легко запоминающиеся приговорки, обозначающие цифры и буквы: Од-на бе-жа-ла, Дай-дай-за-ку-рить, Ай-да, Ба-ки тек-ли, Ви-да-ла, Го-во-рит, Да-чни-ки и т.д. и т.п. Прошедший многочасовые тренировки радиотелеграфист без труда узнает в этой абракадабре, набитой «на ключе», цифру «7» или букву «А». Непросвещенному человеку тут делать нечего. Но была одна буква, состоящая из трех точек и одного тире, которая, без ложной скромности, воспевала самою себя: Я-бук-ва-Ж!
С этой буквой я был неразрывно связан всю свою дальнейшую службу в десантной бригаде, базировавшейся под Алма-Атой, в городе Капчагай. В Капчагае – одной из самых отдаленных спецназовских точек, куда поставляла радиотелеграфистов арзамасская учебка, – я просидел год в штабе бригады на боевом дежурстве. Принимал боевые сигналы на радиостанцию – из Алма-Аты, Душанбе, Фрунзе. А для настройки радиостанции и использовалась кричащая о своей значимости комбинация точек и тире: Я-бук-ва-Ж, Я-бук-ва-Ж, Я-бук-ва-Ж… Монотонность настройки и ночная штабная тишина не раз слипали мои бдительные веки, и голова водружалась на стол – до сотрясения оной папкой зашифрованных сигналов, которая неизменно была под рукой дежурившего по штабу офицера. А спать хотелось всегда. Дедушка-сменщик не спешил на дежурство ни днем, ни ночью. Изредка, после обеда и обеденного перекура, он добирался-таки до штаба, радуя офицеров своим подтянутым, бравым видом, и говорил, направляясь к пищащей радиостанции: «Иди погрызи что-нибудь в столовой. Через час жду…»
А в столовой – хоть шаром покати. Лавки убраны. Столы вытерты. К повару – нельзя. Он из другого подразделения. Возьмешь из его рук пайку – зюфелем станешь. Что означает слово «зюфель», я не знаю до сих пор. Может быть, это выражение пришло в часть вместе с переселенными в степь немцами, которых призывали в ряды Вооруженных сил из казахстанских поселков. Не знаю. Но быть зюфелем – все равно что быть стукачом. Тут и перевод в другую часть не поможет – молва следом пойдет. Вообще, подобных табу и негласных традиций было в бригаде предостаточно. И первогодкам надо было крутиться, приноравливаться, «летать», как называли старослужащие подобные «закаляющие» меры, превращавшие «духа» в настоящего десантника. А на деле – настоящая «зековская» дедовщина… Поэтому чаще всего приходилось мне возвращаться в штаб и слушать букву «ж» с пустым брюхом.
Однажды ветреной бесснежной зимой я спрятал под бетонным блоком – на месте строящейся за штабом казармы – купленный в солдатской чайной чебурек. И когда после двенадцатичасового прослушивания ж-ж-жужащей радиостанции я вырвался на волю – сочный чебурек превратился в окаменевшую на морозе хлебную глину, которую я рвал зубами, изредка утирая бессильные слезы и сплевывая под ноги кровь, сочащуюся из расцарапанных десен…
Закрытые столовые. Холодные бани. Прошедшие мимо меня праздничные клубные концерты и воскресные кинофильмы лишь укрепили мое желание не писать, не вспоминать долгие годы мое незавидное десантирование в степи Краснознаменного Среднеазиатского военного округа. Прописанные уставом внутренней службы «тяготы и лишения» казахстанского спецназа начисто отбили у меня – нынешнего кадрового офицера – охоту в день ВДВ, лихо заломив голубой берет, налившись хмельной бравадой, погружаться в воду городского фонтана, живописуя картину Петрова-Водкина «Купание пьяного меня»...
По этой же причине я ни разу не написал об индийском кино, казахской кухне, узбекской песне. И вот накатило… Как ни старался, так и не смог оторвать от сердца армейские записные книжки, которые я обязан был носить с собой как молитвенник во внутреннем кармане хэбэшки и бубнить, бубнить про себя бесконечные колонки цифр: сколько осталось дней до приказа, сколько положено съесть «дедушке» до оного срока яиц, порционных котлет, сантиметров рыбы, использовать бритвенных лезвий, выкурить сигарет с фильтром и без фильтра, сколько фильмов посмотреть в солдатском клубе. Обновляемые цифири должны быть отсчитаны точно и выдаваться индивидуально каждому подошедшему к салаге дембелю, без запинки, в любое время суток. И так же тщательно, со вкусом должны были отутюжены и ушиты парадки, разрисованы и покрыты шинельным «бархатом» дембельские альбомы. Иначе – зюфель, иначе – залет и – «фанеру к бою»… По ночам «духи» шили, клеили, утюжили, грели на кострах слямзенную со склада тушенку, недружно подхватывали выученные между профилактическим мордобоем азиатские песни, чтобы «дедушки», в ожидании примерки или живописания их подвигов на альбомных страницах, не скучали... Не раз меня разбирала мысль написать поперек цветастой, покрытой десантными парашютами кальки: «Сволочи!»... Но я аккуратно, отложив в сторону фломастеры и карандаши, иголку с ниткой или миску с приготовленным «солдатским» пловом, заполнял дальше разлинованную таблицу, занося в соответствующие графы яйца, бани, фильмы, в основном индийские, так как мои старшие товарищи-сослуживцы по казахстанскому спецназу – узбеки, киргизы, казахи – были без ума от неподражаемого Митхуна Чакраборти...
Слямзенная тушенка… Не будь Капчагайской бригады, равнодушно цокающей буквы «ж» и вынужденных поисков какого-нибудь пропитания – не познакомился бы я с начальником продовольственного склада части прапорщиком Анатолием Петровичем Киселевым. Случай свел меня с этим крепким коренастым человеком, фронтовиком, аккурат в дверях продсклада, куда я незаметно прошмыгнул вместе с кухонным нарядом и уже пытался покинуть заставленное разнообразной снедью складское помещение, прижимая к груди две банки тушенки. Прапорщик Киселев, не отпуская мое худенькое плечо из ласковых железных пальцев, потянул неумелого воришку в подсобное помещение, в свою чистенькую каморку. Посадив меня перед собой на табурет, спросил: «Есть хочешь?» Я, еле сдерживая слезы, кивнул головой. Тогда хозяин открыл взятые тут же из ящика под столом рыбные консервы, банку персикового компота, наломал хлеб и, отвернувшись к маленькому зарешеченному окну, добавил: «Ешь… А на склад больше не лезь. Залеты эти ни к чему. Лучше так заходи, по-простому. Подсобка моя теперь знаешь где. Что-нибудь придумаем…»
Думал я недолго и заглянул к Анатолию Петровичу на следующий день. И после бывал у него каждый свободный от смены час. Помогал таблицы отчетные чертить, графики рисовать. А то и в чайную за папиросами сбегать. О книгах прочитанных рассказывал. Книги мне на дежурство замполит нашего батальона связи капитан Барт приносил: Пикуля, Ремарка, Хемингуэя. Как-то мы с Петровичем о Карелии заговорили. Оказывается, рядовой Киселев недалеко от моих родных мест воевал – на Кольском полуострове, под Норвегией рубежи Родины защищал. Призвался на фронт в 1942-м – восемнадцатилетним мальчишкой. «В твои лета хлебнул я лиха немерено. Война. Да товарищество друзей-разведчиков не раз выручало, – напутствовал меня Анатолий Петрович. – Ты, я смотрю, все один ходишь. Узкий специалист… Связь не только в штабе налаживать надо, но и в казарме. Товарищами обзаводиться. Бьют? Когда «летать» перестанешь? Через полгода… Ты погоди, может, за это время в училище военное поступить задумаешь, все ж за жизнь зацепка. Я вот сорок лет форму не снимаю. После войны в своем подразделении на сверхсрочную остался. До старшины дослужился. Потом, как в армию звание «прапорщик» вернули, – стал прапорщиком. Поколесил по ближним и дальним гарнизонам – от севера до юга – пока в Капчагае не оказался. Уж скоро шестьдесят годков стукнет, а все в строю, все при погонах. Прапорщики, как генералы, срока службы не имеют». Говорил со мной Петрович на полном серьезе, а глаза – улыбались.
Как-то рассказал мне Анатолий Петрович один фронтовой случай. А рассказчик он был, надо сказать, от бога: сам говорит просто, ровно, словно без выражения, а у меня перед глазами короткометражный фильм крутится… Из края в край низкое серое небо. Порывистый с присвистом ветер, словно метла дворника, гонит алмазную крупитчатую поземку по-над чахлой оледенелой тундрой, со злостью отскребая следы взрывов и копоти, присыпая развороченную траками тонкую нежную кожицу заполярной почвы. После майской оттепели и вчерашнего первого ливня, когда морской десант в ходе внезапного наступления, пытавшегося упредить планы врага по перекрытию железной дороги на Мурманск, занял плацдарм на побережье губы Большая Западная Лица, вдруг подморозило, и со стороны гулко штормящего Баренцева моря гигантским растревоженным ульем налетела пурга. Бушевала пурга трое суток. Морские пехотинцы не были обеспечены теплой одеждой, о палатках и печках оставалось только мечтать, когда продрогшие, окоченевшие солдаты ждали своей очереди протянуть скрюченные пальцы к огню редких костров, так быстро пожиравших узловатые стволики карликовых березок, ящики из-под снарядов, деревянные приклады и даже ручки излишних на каменистых сопках саперных лопат. Прятались от непогоды в ущельях, снежных норах. В большой пещере организовали госпиталь. Так было ночью. Днем же немцы беспрерывно и остервенело атаковали, автоматные и пулеметные очереди, орудийная канонада, разрывы снарядов и мин, рев пикирующих юнкерсов, за особую свою жуткую мелодичность прозванных шарманщиками или певунами, сливались в леденящую душу музыку боя, рев, скрежет, грохот которого делал неслышными крики и мат отчаянно цеплявшихся за жизнь вчерашних мальчишек. Наступление было парализовано, смято, как лист циркуляра, брошенного догорать в генеральскую пепельницу… Очнулся Киселев от резкой боли, пронзившей убаюкивающую сладость сонного забытья замерзающего тела. Яркие пятнышки рвущегося к свету сознания сливались в причудливые узоры, кружились, превращались в крылышки бабочки – «это бабочка Адмирал, это бабочка Адмирал!» – послышался Анатолию восторженный голосок младшей сестры, бегущей по ярко-зеленому солнечному лугу в розовом платьице. Платьице росло, темнело, наливалось кровью и вдруг вспыхнуло жарким огнем. Огонь был от взрыва разорвавшейся мины, осколком ударившей в плечо. Словно бумажный, горел маскхалат из искусственного шелка, его необходимо быстро скинуть, что и в учебке получалось совсем непросто. Но разведчиков учили мыслить нестандартно. Из последних сил левой рукой он вытащил финку… «Миленький, не умирай, лапочка, не умирай!» Киселев открыл глаза – трясла его молоденькая медсестра, которой перед десантом он шутливо преподнес прозрачно-голубой колокольчик подснежника. Вечерело, звуки боя стихли, и тишина казалась давящей, неприятной. Сестричка суетилась, перевязав рану, она стала натирать колючим снегом окоченевшие, почти не чувствительные руки. Остатки бригады уже сняли транспорты, отступление прикрывал разведывательный отряд Северного флота, которому, исходя из оперативной обстановки и необходимости спасения бригады, приказано было стоять до последнего. «Чудом услышала я твой стон, кругом убитые, замерзшие, – плакала девушка, – мне говорят, чтоб не ходила от берега, если и был кто живой, так замерз наверняка, а ты жив, жив!» На воде стоял большой плавучий госпиталь, к которому и ковылял Киселев, стараясь не давить на казавшиеся хрупкими плечи медсестры, но ежеминутно спотыкался и терял равновесие, удивляясь, как стойко девушка удерживает его тяжелое мускулистое тело. На берегу их ждало разочарование: шлюпку капитан не спустил, заявив, что нет у него ни времени, ни места. Сестричка умоляла, кричала, что тяжелораненому необходима срочная операция, что он не протянет долго – все было напрасным. Корабль, снявшись с якоря, уже медленно набирал скорость, вся его палуба была плотно забита перебинтованными солдатами, глядевшими на эту сцену устало и равнодушно. Там были врачи, теплый ужин, уход, здесь – ледяная пустыня, усеянная неубранными телами погибших. «Как тебя звать?» – спросил пехотинец пригорюнившуюся медсестру, проваливаясь в забытье, и услышал, или ему так показалось, что он услышал в ответ: «Настя...» Через несколько дней в мурманском госпитале доктор с чеховской бородкой и в пенсне сказал ему: «Ну-с, молодой человек, поделитесь, какой ангел вас бережет, ни ожога на вас, ни обморожения, ну а ключицу, разбитую осколком, мы вам собрали. И я почему-то уверен, что срастутся ваши косточки быстро и хорошо!» Позже от навестившей его Настеньки Киселев узнал, что подобрал их малый сторожевой катер. В море остервенелые немецкие бомбардировщики, вытягивая душу сиреной, пикируя, сбрасывали фугасы на корабль с красным крестом на белом полотнище, и плавучий госпиталь, расколовшись надвое, мгновенно пошел ко дну, унося с собой сотни искалеченных, израненных людей. Затем, развернувшись, один из юнкерсов спикировал на маленький катер. Он рос, казалось, долго и страшно, и гул его нарастал от тонкого свиста и рева до раскатистого грохота, и пронесся над катером так низко, как только мог опуститься немецкий летчик, наслаждаясь страхом беззащитных людей, бравируя перед другими асами люфтваффе. Он прошел на бреющем полете, на миг заслонив все небо, качнул крылами со свастикой и взмыл к облакам, не сделав ни выстрела…
Десант, хоть и не выполнил своей основной задачи, собрал на себя все силы врага, сорвав наступление на Мурманск. Далось это, как и почти всегда у нас, огромными жертвами, личным героизмом, никому не интересным в мирное время, так что и поведать о том многие старики стыдились, боясь, что сочтут их свистунами. Да и сейчас вот весь этот рассказ оказывался лишь необходимым коротким пояснением к той долгой мучительной боли, которая оставалась с Киселевым на всю его жизнь и которой он так хотел поделиться: Насти, своей медсестрички Насти, он больше никогда не увидел и отыскать, как ни старался, не смог…
От нахлынувших воспоминаний ветеран разволновался. И – в продолжение рассказанной истории – поделился со мной одной мыслью… Беспомощному маленькому человеку – в его естественном страстном желании жить, в полной безнадежности, беспросветности, гибельности окружающего его одиночества – помогает Его Величество Случай: маленького человека спасают подоспевшая санитарка и незаметный катерок, до которого нет никакого дела хищнику-юнкерсу. Маленький человек выживает, а большие корабли идут ко дну…
Помню прапорщика Киселева – с благодарностью сердца. Помог он мне тогда сильно… Через полгода в Отарской учебке под Фрунзе, куда прибыла выездная комиссия учебных вузов Министерства обороны, я сдал экзамены и поступил в Свердловское военное училище. Через четыре года прикрепил на погоны первые лейтенантские звездочки. Слова Анатолия Петровича вспоминались мне и во времена славного офицерства, когда я «воевал» с азиатским и освободившимся из мест не столь отдаленных контингентом военно-строительной роты и когда, будучи сотрудником пожарной охраны, участвовал в тушении и расследовании пожаров, после ликвидации которых близко, чрезвычайно близко принимал к сердцу беды и отчаянье людей, потерявших жилье, имущество, родных и близких…
И вот теперь, когда я уже не первый год офицер запаса, ветеран противопожарной службы, российской армии понадобились мои знания, опыт и «закаленное» здоровье, чтобы принять мучительные роды «партизанского» полка… Хлопнувшая дверь армейского вещевого склада отсекла «Законом о мобилизации» последние вольные гражданские мысли… В туманной утренней дымке в шуйских полях под Петрозаводском, где и развернулся кадрированный мотострелковый полк, выросшие за неделю тридцатиместные палатки выстроились в ряды причудливых китайских пагод. Меня и еще полсотни «партизан», приехавших в тот день со сборных пунктов, ожидали ожидаемые сюрпризы беспрекословного военного «героизма», палаточной сырости, чадящей буржуйки, открытой дождям и ветру отхожей ямы, нарядов и полевых выходов – за сухим валежником и скупым северным солнцем… С каждым днем, прожитым на вытоптанном картофельном поле, все окружающее меня бытоустройство и бескомпромиссные повороты брызжущей осенней грязью «военной машины» все больше напоминали капчагайское вечное «ж» и павкикорчагинское – «Смены не будет»… Бессилье что-либо изменить не доходило до крайности благодаря шутникам и балагурам, способным разрядить любую тягостную обстановку. Знатоки анекдотов – карельские Тёркины и прапорщики Шматко – были душой осенне-шуйской кампании и как могли скрашивали прелести уставного армейского быта. Наличие в палаточном городке штабной культуры, как само собой разумеющееся, предполагало отсутствие воды в помывочных баках, тепла и света в местах временной дислокации личного состава. По этой же причине «Избранное» Хемингуэя благополучно пролежало на дне выданного мне вещмешка.
Лишь однажды при проведении занятий в парке соседней воинской части перед моими глазами прогрохотали ожившие картины хемингуэевской «Фиесты». По деревянным платформам и подъемам проехали и водрузились на тягачах 42-тонные махины – танки Т-80, застоявшиеся на хранении в армейских боксах. Стадо боевых «быков», ревущих самолетными двигателями, отправлялось на вилговский танкодром, чтобы показать проверяющим из Минобороны мастерство водителей-механиков, призванных на военные сборы. Правда, в строю нашего танкового батальона – под сотню штыков! – набралось всего с десяток специалистов, имевших представление о танках… После посещения технического парка мне был понятен и близок восторг Эрнеста от шума, блеска и мощи испанской корриды! И так же мне были понятны истоки его безысходной окопной тоски, обреченности каждого следующего бездумного дня и усталости, отупелой усталости от войны, от которой не избавляет и вздох облегчения: «Прощай, оружие!» Пусть даже завершение серого промозглого дня приветствовалось нестройными возгласами «In vino veritas!», доносящимися после отбоя из соседней пехотной палатки… Ощущение реальности невоевавшего «танкиста» было и в бессмысленных построениях оцепленного Приказом военного городка, и в шуйской «резне» бензопилой сырых осиновых бревен, и в бесполезном тепле насквозь промокшего бушлата, и в колючих взглядах армейских чинов, и в приравненной к дезертирству жестокой простуде, и – в дрожкой отдаче автомата Калашникова, прижатого к небритой щеке, поражающего поставленные родиной цели на старом войсковом стрельбище… И было стремление маленького человека, попавшего волей судьбы в случайное, подчас бестолковое скопление народа, затянутого обстоятельствами в горнило войны, метельную степь, махровую дедовщину и промокшую сквозную палатку – «не пойти ко дну».
«Родина нас не забудет…» – с этой мыслью и застаревшим бронхитом через две недели я вернулся в родную петрозаводскую квартиру. Призовет. Обует. Оденет. Научит артиллериста управлять танком. Танкиста – сбивать самолеты. Десантника – понимать словосочетание «летающие лопаты»… С этой мыслью я налил себе рюмку водки и поставил на привычное пустующее место на полке так и не открытую мною книгу о мужестве и любви. Горький осенний напиток обжег воспаленное горло. И мне вдруг показалось, что все это было не зря – и неожиданная повестка, и рев «быков», и сборы «партизан» – в компании новоиспеченных танкистов, простых веселых ребят. В компании с Хемингуэем. И в задумчивую однокомнатную тишину гражданского бытия ворвался звук отбиваемой мною ногтем о бутылочное стекло морзянки: Я-бук-ва-Ж, Я-бук-ва-Ж, Я-бук-ва-Жизнь!
ЭТО – ЖИЗНЬ
Я давно хотел написать про это. Открывая другие сокровенные лирические ладанки – придуманные мной житейские прозаические миниатюры, так или иначе, я нащупывал крупицы этой темы. Многие хотят знать и страшатся этого знания. Завершения пути. Конца света. Жизни и смерти. Вот и последнее в этом столетии сочетание календарного числа 12.12.12 осталось позади. Следующее совпадение чисел ожидается в двадцать втором веке. Эта дюжина тоже – веха, история, жизнь. Именно жизнь, бесконечность жизни. Итожить прошлое глупо и скучно. Вот будущее – интересно, ибо таинственно, неисчерпаемо, неизвестно. Лучшее, что может произойти, – происходит неожиданно.
Многие ставят себе цели, добиваются достатка и положения. И вскоре разочаровываются в достигнутом, равнодушно перебирая нитку жемчуга или многочисленные журнальные публикации. Спрашивается: стоило ли желать необязательного успеха или вещи? Неожиданность – существует вне навязанной мысли. Не предугадаешь любви, нежности, сопричастности к твоей судьбе другого человека, внезапно охватившего все твое существо поэтического образа. Об этом не задумываешься, пропуская мимо себя выгодную должность, баснословный барыш, сочетание цифр в календаре и пророчество индейцев майя, потому что вокруг есть то, от чего ты никогда не откажешься: есть отчая земля, друзья, близкие, возможность трудиться, книги, музыка, зазывный лист белой бумаги…
Мне интересно жить! Интересно торить новые дороги, благодаря солнечным вспышкам детства, горнилу армии и всполохов пожарных будней, радости дружбы, материнской заботе, отцовской улыбке, пониманию и близости любимой, нахлынувшему волнению творчества и – глазам, глазам благодарных слушателей, глазам сына и внучек, которые неожиданно открывают в себе – меня…
И я снова сажусь за письменный стол, положив перед собой черновик будущего рассказа, стихотворения или эссе, которые долгое время существовали отдельно от меня в разговорах, историях, музыке, образах весеннего пробуждения земли, осеннем лесу, озерном плесе. И после того как эти ожившие звуки, мысли, запахи и круги пройдут через мое сердце – это останется жить на обратной стороне отрывного календаря, в изданной книге, аудиозаписи, пространствах Интернета, чтобы наполнить другое сердце добротой и участием, силой и мудростью, сопричастностью ко всему происходящему на этой земле.