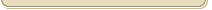Акция Архив

Литературная премия журнала "Север"
Лауреатами литературной премии журнала «Север» за 2023 год стали Анатолий Ерошкин (Петрозаводск – Краснодар), Егор Перцев (г. Олонец, Республика Карелия), Николай Полотнянко (г. Ульяновск).

3 марта стартовал молодежный конкурс журнала «Север» «Северная звезда»-2024



Позвоните нам
по телефону
− главный редактор, бухгалтерия
8 (814-2) 78-47-36
− факс
8 (814-2) 78-48-05
"Север" № 11-12, стр. 86
Провинциальные кружева
Ирина ДЕГТЯРЕВА, ПРОЗА
Дождливые потеки на стекле совсем замутили изображение улицы. А может, это не стекло, а улица размокла и поплыла бурым павшим листом по осенней реке.
У окна было темнее, чем в пропахшем лекарствами зале аптеки, но Виктор подошел сюда. Озабоченно и смущенно ощупал карманы плаща. Несколько раз заглянул в потертый бумажник с коричневой шелковистой подкладкой, проросшей бахромой ветхости. Крупные узловатые пальцы Виктора теребили эту бахрому. Кисти рук выглядели чужеродно, высовываясь из рукавов форменного плаща. Большие, запеченные солнцем, словно расплющенные в ладонях, искореженные тяжкой работой, они не подходили к его высокому сухощавому и чуть сутуловатому телу.
Верх фуражки и плащ на плечах потемнели от дождевой воды. Но выходить на плывущую в околовечерней мгле улицу придется. Он сдвинул фуражку на затылок, но осталось ощущение, что на голове холодный компресс. Виктор смял рецепт. Если сейчас не купить лекарство, ночь будет мучительной. От боли она не кричит и не стонет, только еле слышно дышит. И тишина звонкая, как звонок трамвая, подкравшегося со спины. Хотя что уж неожиданного, когда давным-давно стоишь на рельсах.
«У кого бы занять?» – он похлопал рецептом себя по носу, с тоской глядя сквозь дождь. На оконной витрине сидел пыльный плюшевый медведь с большой круглой таблеткой в лапах.
– Виктор Сергеич! – окликнула его девушка-провизор, подавшись к полукругу окошка. И добавила шепотом, едва он приблизился: – Давайте рецепт. Потом деньги вернете. Давайте, давайте.
Ее круглое лицо с пухлой верхней губой, над которой проступили бисеринки пота, исчезло из окошка, взамен высунулась рука, белая, с ямочками у основания пальцев. Протянула коробочку.
Сутулая фигура Виктора растворилась в дожде за стеклянной дверью.
– Зинка, кто это? – спросила другая провизор. – Чего ты перед ним расстилалась?
– Жена у него очень больна. Второй год лежит. Ходит за ней, как за ребенком.
– А чего денег нет? Пьет, что ли?
– В военкомате много не заработаешь, а лекарства нынче сама знаешь почем.
Девушка игриво толкнула Зину бедром в плечо.
– Откуда ты все о нем знаешь? Ох, Зинка, гляди!
– Да он мой сосед по лестничной клетке! – Зина возмутилась, но торопливо опустила покрасневшее лицо.
Виктор перешагивал лужи, но в темноте то и дело оступался в мутную холодную воду. Кирпичная пятиэтажка выплыла из туманной пелены с остатками надписи масляной краской по фасаду: «Слава труду!»
На узкой полоске двора торчали ржавые металлические перекладины для сушки белья. Напротив пятиэтажки, скособочась, притулился деревянный двухэтажный темно-коричневый дом. На его массивном крыльце с гнилыми ступенями не одно поколение жильцов ломало каблуки и ноги. Под крыльцом жили кошки. Они шипели оттуда, как испорченный огнетушитель, и сверкали глазами. Над крыльцом нависал балкон с перилами. Балясины торчали сломанными зубами, острыми и замшелыми.
У подъезда пятиэтажки Виктор присел на перила. Мимо проходили соседи, здоровались, он молча кивал в ответ и дымил сигаретой. Совсем стемнело. Между домами возник свет фонаря, отразившись в дожде, он рассеялся, смешался со светом из окон, и двор зажелтел, потеплел. Но поднялся ветер. Свет задрожал и исчез за водяной завесой, качавшейся маятником под напором ветра.
В передней воздух стоял плотный, густой. Пахло аптекой, спиртом и яблочным шампунем. Вместе с застойным воздухом замерла тишина. И даже шепоток включенного радио с кухни не дробил эту тишину. Он вплетался в нее механическим акцентом и лишь подчеркивал.
В комнате запах лежачего больного был сильнее. Виктор привычно задержал дыхание, когда вошел, и прищурился, привыкая к полутьме. Ей уже плохо, раз погасили верхний свет. Оставили включенным торшер, укутанный платком. В сумраке стеклянный плафон торшера напоминает бледное бабье лицо.
Виктор подошел ближе и запнулся о корзину. Из нее покатились разноцветные клубки шерсти, утыканные вязальными спицами.
Танино лицо, запрокинутое на подушке, белело почти так же, как торшер. Отечное, с опущенными уголками бледных губ, обрамленное растрепанными жидкими волосами с проседью, оно выглядело пустым с закрытыми глазами, будто хозяйка на минутку вышла, забыв оставить хоть какое-то выражение на лице. Поверх белого в синий горошек пододеяльника лежали ее маленькие руки с ухоженными ногтями, алевшими бусинками наманикюренных ногтей.
Виктор отодрал от рамы разбухшую форточку. Таня приоткрыла глаза и вяло улыбнулась. Он положил лекарство на тумбочку и, отвернувшись к шкафу, стал снимать форму.
– Ты промок. Дождь на улице? – она повернула голову к окну. – Темно совсем. Ничего не видно. Закрой форточку. Сыро.
– Пускай проветрится, – Виктор снял с нее одеяло, подхватил под спину и колени и понес в ванную.
– У нас банный день? – Таня обхватила его за шею и улыбалась.
Он усадил ее на стул со спинкой, стоящий в ванне, раздел и открыл кран. Проржавевшая во многих местах ванна медленно наполнялась желтоватой водой. Таня не чувствовала ничего ногами, но ей нравилось, когда пропахшая хлоркой вода доходила до колен.
Виктор тер Таню мочалкой сосредоточенно и молча. Ее тело, еще год назад бывшее упругим, смуглым, стало бледным и дряблым. Уродливые рубцы на спине от горячей воды порозовели. Таня пыталась помогать, но их руки все время сталкивались, и Виктор монотонно повторял:
– Не мешай.
Оставив ее в ванной, он перестелил постель, закрыл форточку и стал собирать клубки шерсти с пола. Они выпадали из рук. Один укатился под кровать. Виктор нервно дергал за нить, чтобы вытащить его, но клубок крутился на месте, и только. Виктор скомкал нить и зашвырнул ее вслед за клубком.
Таня вязала с утра до вечера. Готовые вещи соседка продавала на рынке. Но почти все заработанное уходило на покупку новой пряжи.
Пока Виктор переносил Таню в комнату, она спросила:
– Почему так поздно сегодня? Что-то на работе?
– В аптеку заходил, – Виктор смазал кремом ее покрасневшую пятку с наметившимся пролежнем.
– Аптека рядом.
– Ты собираешься меня контролировать? – ровным голосом поинтересовался Виктор, укрывая ее одеялом.
Таня не ответила, но снова улыбнулась.
На кухне ярко горел свет. Под желтым плафоном клубился табачный дым. Танина бабушка курила исключительно папиросы. Она почти все время сидела у окна на тахте, на которой и спала. Курила и слушала радио. Ей было уже восемьдесят пять лет. Она почти ничего не видела и плохо слышала. Могла только принести Тане поесть и развлечь беседами.
На столе на хлебных крошках были разложены тетрадки и учебники. Они лежали слишком демонстративно. Проходя мимо, Виктор заглянул в тетрадь и увидел там нарисованных роботов и солдатиков.
– Так-то ты уроки делаешь!
Сережка хотел закрыть тетрадь, но Виктор уже взял ее в руки. Вперемежку с корявыми цифрами уравнений красовались рисунки.
– Молодец! – Виктор шлепнул тетрадь на стол. – Хочешь, чтобы меня в школу вызвали? Думаешь, мне охота выслушивать нотации от учителей?
Он выдернул Сережку из-за стола. Сжал в кулак рубашку на его тщедушной груди. Встряхнул и прижал к стене так, что Сережкин затылок гулко стукнулся о бетонную стену.
– Не имеешь права! Я маме скажу!
– Иди, говори! Выпорю, паршивец!
Сережка горько, беспомощно заплакал и не пытался вырваться. Бабушка ближе наклонилась к радиоприемнику. Ей мешали слушать. Плач еще больше испортил некрасивое лицо Сережки. Бесформенные маленькие уши покраснели. Он плакал безнадежно, растянув в гримасе крупный рот с толстыми губами.
Виктор пихнул его на стул, пододвинул учебник. Сережка еще повсхлипывал, но начал старательно перелистывать страницы, хотя вряд ли читал.
– Завтра суббота, – себе под нос пробормотал он. – Полно времени для уроков.
– Завтра мы идем на участок, – Виктор снял со стены оцинкованную ванну и замочил в ней постельное белье.
– Пап, дождь ведь…
Виктор пожал плечами. Он чистил картошку, отмахиваясь от едкого дыма бабушкиных беломорин.
Это Таня подучила Сережку называть Виктора папой. Два года назад восьмилетний Сережка говорил это слово с удовольствием, теперь – с вызовом.
В кастрюле красными пузырями прорастал кипящий борщ. От ванны с бельем к потолку вместе с запахом порошка поднимался пар. Закатав рукава рубашки, Виктор склонился над ванной, то и дело стряхивая с рук серо-желтую пену. Тяжелое мокрое белье он развесил на веревках под потолком.
Бабушка уже легла, замотав голову серым мохеровым платком. Беззубый рот ее безвольно открылся. Свистящее дыхание переходило в сухой тонкий храп.
Виктор отодвинул кастрюлю и цветочный горшок с колючим столетником и облокотился о подоконник. Дождь косо лупил в окно. Через трещину в стекле на подоконник натекла лужица.
«Пропадет картошка, – подумал он. – У кого бы денег занять?»
Вечер перетек вместе с дождем в черный водосток ночи. Виктор потер глаза и продолжал невидящим взглядом смотреть в темное окно. Он сонно глубоко вздохнул и обернулся:
– Сережка, иди спать.
Мальчишка сгреб учебники, бросил их на полку у стола и убежал в комнату.
Виктор оттолкнулся от магнетирующего темнотой окна и пошел следом. В комнате поставил раскладушку. Не застелил ее, присел, да так и уснул, привалившись боком к брезентовой поверхности.
Он и проснулся рывком. Ноги совсем затекли от неудобной позы. Виктор вытянулся и попытался заснуть. Сонно поморгал, но серый свет раннего утра уже попал в глаза и рассеял остатки сна.
Сережка за шкафом громко сопел вечно простуженным носом. Виктор видел профиль Тани, сотканный из серых утренних сумерек, без выражения, расслабленный сном.
Воспоминания – это вроде бы прошедшее, но из них сплавлено настоящее. То и дело вспоминаем, сопоставляем, сравниваем, будто к зеркалу подносим наше настоящее, а в отражении видим прошлое.
Виктор смотрел на Таню, а видел ее тогдашней. С белокурыми пружинящими кудряшками, которые выбивались из-под серой форменной ушанки. Иней побелил меховой воротник бушлата. В широких рукавах Таня прятала покрасневшие маленькие ручки. Смеялась, запрокинув скуластое лицо. И глаза блестели от нестерпимого южного солнца, серые, как иней на воротнике. Все заражались ее смехом. Вокруг нее толпились офицеры. Но ее взгляд из-под заиндевевших ресниц был направлен только на него. Несколько месяцев вспыхнули искрами инея на солнце, но и они растаяли.
…Пружинистые кудряшки ее волос, у корней обнаружившие свой настоящий темный цвет, ниспадали с брезентовых носилок. Они распались на две части, оголив бледную окровавленную шею. Она лежала на животе, руки безвольно свисали, почти касаясь земли. Таня была неподвижна, лишь колечки волос пружинили, пока солдаты бежали с носилками на площадку, где ждал вертолет.
Виктор не мог лететь с ней. И увидел ее через два дня. Он прорвался с автоматом в реанимацию как был, в грязном порванном камуфляже, с обожженной рукой. Кого-то из врачей двинул в челюсть, кого-то оттолкнул. Перевязанную там, в горах, руку пекло и дергало. Потом ему с мясом отдирали бинт в процедурной этого же госпиталя, оглушив обезболивающим. Но он уже до уколов был оглушен, увидев ее страшно темное, одутловатое лицо с белыми губами. И корни Таниных волос, еще позавчера темные, тоже побелели.
– Кто ей покрасил волосы? – спросил он у хирурга, снимавшего бинты с его руки. Хирург посмотрел странно и ничего не ответил.
Таня не приходила в себя. Она умирала. Виктор бродил по коридорам госпиталя, укачивая обожженную руку здоровой рукой, и в лицах врачей и медсестер видел ее смерть. Они отворачивались, отмалчивались.
Смерть для него была – густо-розовые напомаженные губы медсестры, борода с проседью у врача – все запоминалось, бросалось в глаза яркостью и отчетливостью.
Ночью Таня пришла в себя и начала кричать от боли, истошно, закатив серые, уже без блеска, глаза. Виднелись только выпуклые белки с красной сеточкой полопавшихся сосудов.
В другом крыле, в ожоговом отделении госпиталя, он слышал ее крик. День и ночь, день и ночь… Пришедшие навестить друзья говорили отчего-то шепотом, а может, это только ему казалось, оглохшему от контузии, от своей боли и ее крика. Друзья говорили, что она старше, у нее ребенок, а у него карьера. Он спокойно объяснял:
– Она знает, что умрет, и не хочет, чтобы Сережка попал в детдом. Я не могу ее предать.
Виктор устроил, чтобы их расписали без проволочек. Тихо и обыденно. С каждым следующим днем боль ее отпускала. Она все больше улыбалась, но робко и виновато.
И его отпустило… Он перестал видеть предметы, людей яркими мозаичными всплесками, вызывавшими в нем страх, вопившими о смерти, о существовании конца, о котором он раньше не думал с такой ясностью и болезненной простотой. Сначала все вокруг смягчилось, утихло, приобрело привычный цвет и форму, но скоро отчего-то обесцветилось, стало пресным и скучным, как желто-серая пена в оцинкованной ванне с застиранным бельем.
Служить, как раньше, Виктор не мог. Оставив свою комнату в общежитии, он перебрался к Тане в маленький городок, где ему помогли устроиться в военкомат. Через пару месяцев местный военком ушел на повышение, и Виктор занял его место.
Все здоровались с ним в городке, даже звали на свадьбы, в школу на первый и последний звонок, обещали дать квартиру в новом доме, который многоэтажным гвоздем произрастал на окраине. Но ордер выписывать все же не спешили.
– Сережка, вставай, – негромко позвал он.
– Там дождь, – отозвался из-за шкафа сонный и хмурый Сергей.
Виктор ничего больше не говорил, и Сережка с пыхтением и кряхтением оторвался от теплой подушки и побрел в ванную.
Деревянный дом за окном отсырел за ночь до черноты, исходил паром и дымком одной из печных труб. Виктор, одеваясь, поглядывал в окно на дымок и туман, который будто рождался из печного дыма. Старенький камуфлированный комбинезон, заштопанный Таней мелкими стежками, Виктор надевал теперь для огородных работ на маленьком земельном участке.
– Витя, вы надолго? – Таня едва заметно говорила в нос. – Снег сегодня будет.
– Да какой же снег? – Виктор рылся в шкафу в поисках свитера и старался не глядеть на Таню, чтобы не увидеть ее покрасневшие глаза.
– На второй полке, – подсказала она.
– Откуда ты знаешь, что я ищу? – он спросил привычно ровным голосом.
– Не сердись. Ты всегда надеваешь свитер с комбинезоном. Я знаю твои привычки. У меня теперь одна работа – лежать и наблюдать. Хотя я и раньше любила наблюдать за тобой.
– Интересно, – Виктор встал посреди комнаты со свитером в руках. Смотрел на Таню тяжелым пристальным взглядом прищуренных глаз. – И что ты можешь рассказать о подопытном кролике?
– Раньше ты любил выпить рюмашку, особенно после боя. И делал это со вкусом. Ел ты, захлебываясь, любил меня, захлебываясь, – Таня разглядывала его, и Виктор опустил глаза. – Часами сидел над шахматной доской и решал задачи, завернувшись в плед. Помнишь, ты в командировки брал с собой синий плед, с дырочками? Ты его сигаретами прожег. А теперь ты бреешься через день. Шахматная доска пылится на шкафу. Ты не пьешь, похудел, ссутулился, подкашливаешь по-стариковски. Тебя до дрожи бесит мое вязание. Ты говоришь монотонным, еле слышным голосом. Прячешь от меня свою любовницу. Совсем мало спишь и ешь когда придется.
На словах о любовнице Виктор поднял голову, но тут же опустил, а Таня продолжала:
– Ты думаешь, я лежу здесь и ничего не вижу? И знаешь, что самое страшное? Я! Я не могу умереть. А что еще хуже, не хочу умирать.
– Пап, ну ты идешь? Разбудил меня чуть свет, а сам тут разговоры разговариваешь, – Сережка взглянул из-за Виктора на мать.
– Идите, идите, – Таня улыбнулась и взмахнула рукой. – Меня бабушка покормит. Сережа, шапку надень, и так носом хлюпаешь.
Сережка выскочил в коридор, сделав вид, что не слышит.
– Зря ты, – Виктор потрогал небритый подбородок.
– Возвращайтесь поскорей, – у Тани в руках уже топорщились спицы. Из-под них выползал почти готовый желто-зеленый детский свитер. Она чаще всего вязала детские вещи.
Туман растворился. Деревянный дом нависал над двором, отчетливый, прочерченный каждой доской, ажуром наличников и фронтонов. Виктор остановился у подъезда, рассматривая старый дом. Сережка заскучал, присел на перила, нахохлился и выпятил толстые губы.
– Шапку надень, – закуривая, сказал Виктор.
– Сам-то, – проворчал Сережка, но шапку из кармана вытащил.
– Насморк у тебя, а не у меня, – Виктор чувствовал, как боится его мальчишка. Чем дольше они живут вместе, тем больше этот страх, глухой, ничем внешне не выраженный, но такой явный. Хотя Сережка должен был узнать Виктора лучше, привязаться, но этого не происходило.
Пять километров до участков проехали на маленьком автобусе. Под низким, настороженным небом на углубленном к горизонту поле лепились друг к другу заборы – металлическая сетка, штакетник, доски от ящиков, поддоны из-под кирпича – огораживались как придется. Будочки, сарайчики…
Поле и вблизи выглядело так, как земля выглядит с самолета. Разлинованная, с уменьшенными до размеров спичечных коробков домиками, разноцветные квадраты. Микромир. Прямые дымы костерков серыми витыми столпами подпирали небо, а создавалось впечатление, что они изливались из серых рыхлых тучных телес небосвода. Ближе к горизонту, словно у кого-то на участке, выросла огромная стрелка лука с завязью, еще не распустившейся белыми или фиолетовыми цветками, – церковь. Белая, почти растаявшая в серости неба, но с ярко-желтой маковкой купола, который, казалось, колыхался, как на тонком луковом стебле.
Картошка восставала из земли, облепленная мокрыми жирными комьями и серпантином розовых червей, тронутая быстрым гниением осени.
«Пропала картошка, – наваливаясь на лопату и сутулясь, думал Виктор. Отирал клубни от земли ладонями с уже подмерзшей черной коркой на коже. – Половина точно не просохнет».
Обожженной рукой особенно болезненно ощущались холод и сырость. Виктор машинально совал руку в карман, разминая пальцы. Тяжелая, мокрая земля поддавалась с трудом, огромными комьями липла к лопате. Зато Сережке было раздолье – он дергал морковь и свеклу. Из мокрой земли они выскакивали с сочным вздохом, легко, как облитые нефтью. Их созревшие тела с трещинами переспелости земля отпускала охотно. Сережка перекликался с мальчишкой, оранжевая шапочка которого мелькала на соседском участке…
Пока Виктор в длинном узком сарайчике растапливал железную печку и кипятил чай, Сережка схватил из пакета две вареных картошки и ломоть черного хлеба и умчался куда-то.
От усталости и боли в плечах Виктор сидел у открытой дверцы печи, сильно сгорбившись, подставив нелепо-большие руки к огню. До этого он отмывал их в тазу с ледяной водой и теперь изнывал от ломоты в пальцах.
Вот так же они сидели с Таней у буржуйки в палатке. Прижались друг к другу, укрылись тем самым синим пледом. Ребята деликатно вышли, но они просто сидели, глядели на огонь и молчали. В те дни Виктор не думал, что она приехала сюда в поисках нового мужа, не думал, что вызвалась подменить заболевшего доктора и увязалась с группой в горы, чтобы быть все время у него перед глазами. Он видел, как она целый день перевязывала, зашивала, колола и снова шила, бинтовала, готовила раненых к эвакуации. Убитым закрывала глаза, связывала бинтом руки на груди и подвязывала подбородки.
Острота тех дней подзабылась за два года. Остался сухой остаток – изуродованная, беспомощная, нелюбимая, одинокая женщина. Теперь Виктор только и думал, что все было блажь и глупость. Он вдруг уверился в ее тогдашней корысти и бездумной самоуверенности. Ведь в том же сухом остатке было и ее замужество.
Виктор прилег на деревянный топчан, устланный летним сеном. Он сам накосил эту траву на холме у церкви. Пахла она сладкой горечью, как пахнут лишь луговые травы. Весь пол сарая покрывал рассыпанный для просушки картофель. Он источал терпкий запах сырой земли. В единственное квадратное окно под потолком виднелось серое небо и черные метки распластанных в полете птичьих тел.
Только здесь Виктор обретал ту тишину, в которую хотел окунуться с головой – чтобы над ним колыхался многометровый пласт этой тишины, где безмолвно плавали бы в сером небе птицы.
«Если бы тогда не задержали наш вылет, – думал он. – Я бы не встретил ее на взлетном поле. И ничего бы не было. И ее, может, не ранило бы… Как странно – столько путей было в начале. Мог стать командиром отряда. Точно стал бы. Собирались уже в академию послать… Теперь ничего не будет».
Он хотел уйти утром на службу и просто не вернуться вечером. Ее бы отправили в инвалидный дом, Сережку – в приют. Бабушка тихонько умрет в своей однокомнатной квартирке. И все. Но каждый вечер Виктор возвращался.
Несколько раз ему снилось, что он убивает ее. Просыпаясь в поту после таких снов, Виктор думал, что проще было бы отсидеть за убийство, чем ждать, стыдно и кощунственно ждать ее смерти. А если пройдет десять, двадцать лет? Кому будет нужен пожилой военком заштатного городка?
Виктор спал, повернув голову набок, уткнувшись в колючее сено с запахом прошедшего лета. Свет из окна, тусклый, освещал его лицо со впадинами закрытых глаз, с ввалившимися щеками, твердым правильным контуром губ и вмятиной-морщинкой на щеке от ямочки.
Прогнулись доски топчана, скрипнули, и кто-то подул Виктору в шею. Он открыл глаза. Зина пристроилась рядом. Близко были улыбающиеся глаза, пухлая верхняя губа с бисеринками пота над ней. Неистребимый аптечный запах от ее пушистых волос. Слипшиеся от черной туши ресницы, как у старшеклассницы, вдруг дорвавшейся до маминой косметики, забавно сочетались с серыми полосатыми рейтузами, толстым синим свитером и оранжевыми резиновыми сапогами, которых она не сняла, забравшись на топчан. Зина и была девчонкой, недавней школьницей.
Виктор сторонился ее в последнее время. Он все еще трудно переживал, что оказался ее первым мужчиной. Виктор не мог понять, зачем она пошла на сближение, зная по-соседски его семейные дела.
– Виктор Сергеевич, – она прижалась щекой к его плечу. – Что же вы не сказали, что пойдете сегодня на участок?
Он дернул плечом.
– Когда ты перестанешь мне «выкать»? Мы давно спим с тобой, что ж ты в интеллигентность играешь?
Зина вздрогнула, но сильнее прижалась, пряча заалевшие щеки.
– Сережка увидит, – Виктор приподнялся на локтях.
Но Зина обхватила его, горячо и смущенно стала целовать в колючую от щетины шею, пахнущую табаком и потом.
– Он с мальчишками к озеру пошел, – выдохнула она. Гулко стукнулся об пол упавший с ее ноги сапог.
Поверх ее пышных волос, засыпавших его лицо, он смотрел в квадрат окна. Птицы кружили, будто в водовороте, планировали на воздушных потоках. Виктор следил за ними, тоскливо сведя брови. Он ощущал, как нарастает звон в голове, и ломота в плечах уже не от усталости, а от поднимавшейся температуры. И Зина почувствовала.
– Ты как печь. У тебя что-то болит?
Она встревоженно посмотрела ему в лицо. Села, суетливо надела свитер.
– Мне нельзя болеть, – он потер лоб, источавший сухое тепло. – У тебя есть что-нибудь жаропонижающее?
– Аптечка в моем сарайчике есть, – Зина впрыгнула в сапоги и убежала.
Вернулась быстро, раскрасневшаяся. Холодными солоноватыми пальцами сунула ему в рот горькую таблетку и подала воды.
– Темнеет, – заметил он.
– Просто снег пошел. Странный такой, не снежинками, а белыми тонкими палочками. Немного морозит. Ты все выкопал? – Зина подобрала с пола картофелину, покачала головой. – Погниет. Чего ж ты так поздно взялся копать?
Виктор, хмурясь, оглядел топчан, пригладил взъерошенное сено.
– Сережку не видела?
– Его от озера за уши не оттащишь.
– Мне не хотелось снова говорить об этом, – Виктор поискал сигареты в карманах, скрывая то ли смущение, то ли раздражение. – Я не хочу, чтобы ты забеременела.
Зина виновато улыбнулась.
– А если я захочу?
Он пожал плечами, считая, что все сказал. Она обняла его за плечи.
– Ты вчера вышел из аптеки. Ссутулился, как старичок, в промокшем плаще. Я даже думала побежать за тобой, под дождь, обнять. Пусть бы все видели.
– Зачем? – мрачно поинтересовался Виктор, отгоняя сигаретный дым от лица Зины.
– Смотрю на тебя и не пойму, за что тебя все так любят? И я, и Таня, и другие. Они наверняка есть у тебя, эти другие, – Зина шарила жадным взглядом по его лицу. – Разве что ямочка на щеке, – она отобрала у него сигарету и стала горячо взахлеб целовать в губы.
Она оторвалась от него, но все еще прижималась к щеке.
– Ты не любишь ее, не любишь Сережку. Зачем же с ними живешь?
– Девчонка, что ты понимаешь? – Виктор отодвинул ее от себя.
– И меня ты не любишь.
– Я этого не скрывал с самого начала. Ты не можешь меня упрекнуть, – он незаметно для себя съехал на привычную в последнее время монотонную интонацию.
Зина провела рукой по его жестким коротко стриженным волосам. Укололась и сжала пальцы в кулак.
– Пойду я. А то и правда Сережка увидит, – она остановилась в дверях, зябко пошевелила круглыми плечами, подождала несколько секунд и вышла.
* * *
Деревянные панели до половины стены, запыленные по верхней кромке, красные тяжелые портьеры на окне, золотистые орлы со скучными физиономиями на гербе за спиной Виктора, сидевшего за письменным столом, – вся обстановка кабинета военкома заставляла посетителей подобострастно склонять голову, рассматривая проплешины на красной ковровой дорожке. Хотя лучше уж было смотреть на красную дорожку, окаймленную почерневшим от старости паркетом, чем на сухощавую, скучную, как у орлов на гербе, физиономию военкома.
Виктора с позавчерашнего дня терзала повышенная температура. Он налил из графина воды в стакан. Вода в городке была желтоватая, с горчинкой. Виктор взболтал ее в стакане и, поморщившись, запил таблетку. Ощущение, что глаза распухли, не проходило. Виктор пытался читать документы, но буквы настойчиво уплывали за край строки, а от фиолетовых печатей перед глазами ползли круги. День сегодня был неприемный, и Виктор подумывал уйти пораньше.
– Нет, я пройду, – различил он высокий женский голос в приемной и представил, как полненькая секретарь Клавдия Матвеевна в зеленом шерстяном платье с красным лакированным пояском в предположительном районе талии, на низких острых каблучках преградила дорогу незваной просительнице.
– У вас повестка? – басовито вопрошала Клавдия Матвеевна. – Ах, раз так, то нечего, нечего. Военком занят. Да что же это? Товарищ полковник!
Виктор услышал, что борьба происходит уже на пороге кабинета. Он не поднял головы. Лекарство еще не подействовало, боль кипела в голове, била в виски и затылок. К тому же Виктор слишком хорошо знал категорию мамочек, которые вот так перли напролом в его кабинет заступаться за своих вполне крепких, годных к строевой сыновей.
– Клавдия Матвеевна, пусть войдет, – Виктор так же хорошо знал, что сыновья этих бойких мамаш пойдут у него в армию, побегут, невзирая на трясение у военкома перед носом справками и обсопливленными, промокшими от слез платками.
Он никогда не предлагал посетителям присесть. Большинство оставались стоять, торопливо высказывали свою просьбу, сбиваясь от тяжелого взгляда военкома или вида его плоской широкой макушки.
Эта посетительница сразу же села, да еще ногу на ногу закинула. Виктор видел только ее черные кожаные туфли, телесного цвета колготки, облегающие стройные икры, и край коричневой буклированной юбки с серыми и синими узелками на ткани.
Она молчала, ожидая, когда Виктор оторвется от созерцания бумаг.
– Я вас слушаю, – он так и сидел с опущенной головой.
– Моему племяннику снова пришла повестка, – она теребила белыми длинными пальцами черную круглую лакированную сумочку. – Это уже не просто насмешка, а издевательство. Мало того, что ваши чинуши не удосужились узнать его новый адрес, они запугивают наших бывших соседей. Обещают его арестовать и посадить в тюрьму за то, что он скрывается.
– А сам он почему не пришел? Любят они за дамскими спинами прятаться, – Виктор поворошил бумаги, лежавшие на столе.
– В том-то все и дело! Ему несколько лет назад электричкой ногу отрезало. А вы все шлете и шлете повестки. Думаете, у него нога отрастет? – с усмешкой предположила она.
Виктор посмотрел на нее. Женщина оказалась неожиданно для него молодой. Длинную шею обвивал пепельно-голубой шелковый платок. Белая матовая кожа лица подчеркивала своей бледностью глаза, такие же пепельные, как и шейный платок, чуть поднятые у висков и оттого ироничные. Полуулыбка на губах усилила насмешливое выражение ее лица.
Залпом допив воду, остававшуюся в стакане, Виктор невольно выпрямил плечи и вдруг охрипшим голосом спросил:
– Дайте-ка ваши документы.
Он долго рассматривал ее паспорт, а она рассматривала мрачного военкома. Небрежно выбритого, но аккуратно причесанного. Краешек синей пластмассовой расчески торчал у него из кармана. Бороздки морщин на смуглом лбу и огромные кисти рук. И морщинки, и руки были в постоянном движении, а лицо при этом оставалось непроницаемым.
– Вы так долго рассматриваете мой паспорт, будто там повесть о моей жизни. А особенно большая поэма на страничке, где отметка о регистрации брака.
Виктор оттянул узел галстука, постучал паспортом по столу.
– Евгения Михайловна, это все, конечно, хорошо, но где военный билет вашего племянника?
– Дома, – растерялась она. – А разве нужно было?
– Нужно было племянника привезти с военным билетом. И не устраивать штурм моего кабинета, – привычно монотонным голосом урезонил ее Виктор.
Она вдруг встала, одернула свитерок на бедрах, будто собиралась уйти.
– Как вам моя фигура? Хрупкая? – спросила она, склонив бледное личико к плечу. Подняв руки, поправила черные волосы, забранные в узел на затылке.
Виктор шумно втянул носом воздух, его скулы резко покраснели, он начал медленно вставать из-за стола.
– Вы что себе позволяете?
– Значит, хорошая фигура, – кивнула Женя. – Как вы думаете, с моей комплекцией я могу взвалить на спину безногого племянника, у которого нет протеза? А в зубы взять его военный билет? Типичный для ваших военкоматов подход.
– Ну уж, – Виктор улыбнулся впервые за разговор. – Вы утрируете.
– Лучше бы кто-нибудь из ваших сотрудников приехал к нам, своими глазами увидел Сашу, и наконец оставили бы его в покое.
Виктор посмотрел на часы, встал из-за стола, прошел, прихрамывая, к залитому дождем окну. Женя глянула на его сутуловатую спину в смятой на пояснице форменной рубашке и подумала, что не злится на него. Хотя, когда ехала сюда, ругала неизвестного полковника. Военкомат казался ей маслянистой железной машиной зеленого защитного цвета с поршнями и шестеренками, которая, несмотря на внешние воздействия – слезы, ходатайства, справки, характеристики и отсрочки, – печатает и печатает повестки, вышлепывает красные корочки военных билетов. Так, наверное, и было, но некоторые шестеренки оказались не такими уж мрачно-маслянистыми. Особенно этот, с ямочкой на щеке от улыбки. Где и кому он улыбается, если большую часть времени проводит в кабинете?
– Как вы сюда добрались? – обернулся Виктор.
– На машине, – Женя достала из сумочки ключи и покачала ими в воздухе.
– Ага. Все-таки могли племянника привезти.
– А по лестнице его спускать на закорках? Лифт не работает. Родители у Сашки давно умерли, он живет у своей жены. А от нее помощи, как… – Женя махнула рукой. – Она беременная.
– На это у вашего племянника сил хватило, – не удержался от колкости Виктор.
– Не надо быть грубее, чем вы есть.
Он опустил глаза. В этом кабинете с ним еще никто не разговаривал так открыто и даже фамильярно.
– Так вы пошлете кого-нибудь к Саше? А может, а может, вы сами, – Женя встала, сняла плащ со спинки стула, – со мной съездите?
– Вообще-то, не положено, – Виктор исподлобья взглянул на Женю. – Хотя…
Женя молча сунула ему в руки плащ и встала к Виктору спиной. Он замешкался, привык, что в этом кабинете все слушались его. Но после ехидного взгляда Жени, который она бросила через плечо, неуклюже помог ей одеться.
Синий «жигуленок» блестел под дождем у крыльца военкомата. Женя перепрыгнула лужу, открыла дверцу и поманила Виктора. Он достал сигареты, остановившись в нерешительности под навесом. Вытянутая физиономия Клавдии Матвеевны так и застыла у него перед глазами. «Лучше бы Ковалева послать от греха», – подумал он.
– Ну что же вы, Виктор Сергеевич! – она улыбнулась снисходительно, будто почувствовала его настроение.
До города было двадцать километров. Виктор сел на переднее сиденье, аккуратно пристегнулся ремнем безопасности с неподвижным мрачным лицом. Барабанил пальцами по кожаной папке, лежавшей у него на коленях. Женя поначалу с разговорами не приставала, но искоса поглядывала на его изуродованную ожогом руку. Поерзала с нетерпением в водительском кресле и усмехнулась своим мыслям.
– Вот как бы вы отреагировали, если бы, – Женя сделала паузу, бросила быстрый взгляд на Виктора и продолжила, – если бы я вам сказала, что мой племянник здоров?
Виктор повернулся к ней, но ничего не сказал.
– У вас удивительно непроницаемое лицо, – Женя снова мельком взглянула на него. – Может, я вам взятку предложить хотела? В кабинете опасно. А вот так, в машине или у меня дома…
– Очень хорошо. Раз он здоров, я его лично препровожу в военкомат. А вы нас любезно подвезете. Правда?
Женя кивнула, прикусив губу, и до конца дороги молчала. Остановилась у многоэтажки, облицованной голубоватой кафельной мозаикой.
– Что же вы, Виктор Сергеич? Второй подъезд, четвертый этаж, квартира пятнадцать.
– Интересно, что меня там ждет? – Виктор не торопился выходить из машины, настороженно хмурясь.
– Неужели трусите?
– Опасаюсь после всех ваших заявлений, – он нервно теребил молнию на папке, но, решившись, вышел из машины, добежал под дождем до подъезда, прикрыв верх фуражки папкой.
Женя проводила его взглядом и улыбнулась.
Через полчаса Виктор вышел. Поднял воротник плаща, но под дождь не шагнул, задумчиво глядя на серое небо с черными потеками в подбрюшье облаков. Словно ребенок рисовал акварелью. Развел черную краску, чтобы получить серый цвет, но так много воды добавил, что она стекала вниз по картине, набухала большими каплями, в которых конденсировался истинно-черный цвет.
Знобливый серый дождь вверг Виктора в окончательное уныние. Брести под дождем до станции не хотелось до дрожи. Лоб горел от жара, ладони стали сухими и горячими. Виктор подставил их под струйки дождя, стекающие с навеса подъезда.
– Будете со мной чай пить? – Женя подошла незаметно, спрятавшись под большим красным зонтом.
– Думаете, после всех ваших фортелей откажусь? – раздражаясь, проворчал он. – С вашим племянником я все вопросы решил. Его больше не будут беспокоить. Не понимаю, зачем только вы вздумали шутить?
– Небольшой психологический эксперимент, – она сложила зонт и впрыгнула в машину.
– Скажите прямо, проверяли мою честность.
Машина остановилась у соседнего дома, а Женя так и не ответила. Вместе под красным зонтом они дошли до подъезда. Зонт пришлось нести Виктору, а Женя взяла его под руку.
Прихожая в ее квартире оказалась очень тесной. Повернувшись друг к другу спиной, они стали раздеваться. Одновременно повернулись, и тут же он обхватил ее за плечи, прижал, уткнулся лицом в ее макушку со вздохом, больше напоминавшим стон.
– Тише, медведь, – прошептала Женя. – Спину сломаешь. Ай-ай, товарищ военком! Еще в кабинете я видела ваш взгляд, совсем неподобающий для солидного полковника.
Дождь уже не щелкал по карнизу. Небо иссякло, но все еще вздутым синяком болезненно сумерничало над городом. Оттого и шторы задергивать не пришлось. Они, сиреневые, шелковистые, колыхались от сырого ветерка, втекавшего свежестью в комнату через приоткрытое окно. Отвернувшись к стене, Виктор спал глубоко и мертво, будто уже несколько месяцев не отдыхал.
Женя в длинном, до колен, свитере, надетом на голое тело, босая, тихонько прошла по комнате. Она собирала с пола вещи. Его форму повесила на стул. В нагрудном кармане кителя порылась из любопытства.
Кроме синей пластмассовой расчески, там лежали смятая сигаретная пачка и огрызок карандаша. При всей горячности Виктора, внезапной порывистости и страстности, в которой его поначалу сложно было заподозрить, оставалось ощущение, что его душа – запыленный мрачный угол, в котором так же, как в кармане кителя, сиротливо осели: слабое семикопеечное желание еще все-таки выглядеть аккуратным, может, даже кому-то нравиться, в то же время почти полное равнодушие к своему здоровью, рассыпанному крошками табака, и нервозность, обозначенная зазубринами на обгрызенном кончике карандаша.
Женя подошла укрыть Виктора. Он сутулился даже лежа. Его мощные плечи и обнаженная спина с угольниками лопаток выглядели обиженно и жалко. Женя не хотела будить, но провела ладонью по его спине вдоль позвоночника. Он вздрогнул, повернулся, прищурившись, поглядел на нее.
– Можно я у тебя останусь? – он взял ее за руку, прижал ладонь к своим губам.
Женя кивнула. Ей не терпелось узнать о нем все до мелочей. Вот он, рядом, еще несколько часов назад чужой, неприступный, теперь близкий, ее. Но расспрашивать не решилась. При всей нежности и сонливой умиротворенности взгляд у Виктора был отрешенным. Он наверняка не ответил бы на вопросы с той искренностью, которой она ждала. Но больше всего Женя боялась услышать, что он женат, образцовый семьянин и отец. Она порывисто обняла его и зашептала:
– Ты – мой, мой…
Виктор погладил ее по затылку, по мягким волосам. Грустно покачал головой, глянул на черный циферблат круглых часов, висевших на розовой стене. Женя горячо целовала его в губы, подбородок и ямочку на щеке. Такая желанная, красивая, свободная, а он как будто слышал бормотание радио на кухне в их с Таней квартире. Они уже включили свет, ждут его. Наступит ночь, и в старом доме, деревянной громаде погаснут окна. А она будет ждать. Начнет звонить по больницам, моргам, в милицию, где ей скажут, что с мужьями такое случается. Они уходят ненадолго, но возвращаются.
«Надо бы позвонить… А что сказать? Я жив, не ищите меня?»
Виктор судорожно вздохнул. Женя, встревоженная, подняла на него глаза, но снова ничего не спросила.
Ночь пришла раньше, вместе с дождевыми сумерками. Женя включила ночник с зеленоватым светом. Она не отходила от Виктора. Когда он спал, смотрела в его лицо, когда бодрствовал, тоже смотрела, ненасытно, придирчиво.
– Ты так глядишь, будто на века вперед насмотреться хочешь, – Виктор смущенно закрыл лицо руками.
– Еще утром ты был чужой, неприступный, а теперь лежишь в моей постели. Ближе тебя нет и, наверное, никогда никого не будет, – Женя взяла его за руки, отняла их от лица Виктора. – Надо привыкнуть к тебе, твоему лицу. Хотя кажется, что знала тебя всегда.
– Завтра не смогу пойти на работу. Неприятности мне обеспечены.
– Почему бы тебе не пойти?
– Не могу, – Виктор, нахмурившись, покачал головой. – Теперь не могу.
Он хотел, чтобы она расспросила, но Женя молчала.
– А тебе на работу не надо? – он встал, завернувшись в одеяло.
– Я в отпуске. Ничего глупее нет, чем отпуск глубокой дождливой осенью, когда бархатный сезон уже закончился. Господи, как хорошо, что я не уехала на море…
Виктор прошелся по комнате, провел пальцем по корешкам книг на полках.
– Что-то все медицинская тематика. Ты врач?
– Акушерка. Почти бабка-повитуха, – Женя резким движением руки откинула волосы со лба. – Есть хочется. А ночью вредно.
– Удивительно, – он плотнее обернулся сползавшим на пол одеялом. – Я убивал людей, а ты принимала людей на свет. Как странно.
Женя, задумчивая, подошла к нему, прижалась щекой к его горячей спине.
– Ты совсем болен, – она погладила его по плечу. – У тебя жар. Мы завтра вызовем врача, возьмем больничный. Если хочешь, я позвоню в военкомат, скажу, что ты заболел. Потом через время сам туда съездишь, и все уладится – вот увидишь.
В длинном Женькином красном шарфе, укутанный одеялом, Виктор болел по всем правилам. С приемом лекарств по расписанию и чуть навязчивой заботой, от которой он давным-давно отвык. Забота отчего-то не казалась ему приятной.
Женя то меняла шторы на окнах, то вдруг принималась мыть окна, надев на Виктора пуховый платок, а поверх одеяла бросив свои пальто и шубу. В тренировочных облегающих штанах она, длинноногая, балансировала на подоконнике и покрикивала на него, высовывающегося из-под одеяла.
– Сиди там! Не дыши холодным воздухом!
Женя строчила что-то на швейной машинке, пела на кухне, когда готовила, часто убегала улаживать свои дела. Была суетлива, деятельна, оживлена и возбуждена.
А для Виктора время будто бы замерло. Он лежал в постели уже непривычно долго, оттого время спуталось, заблудилось в складках одеяла. Он каждое утро спрашивал Женю, какой сегодня день.
С брезгливым любопытством рассматривал картинки в книгах Жени, где были изображены уродливые младенцы с разными патологиями.
«Я убивал, она их принимала, – снова подумал он. – Вдруг души тех, убитых, вселялись в новорожденных? Как будто могут быть старорожденные… Переселение душ… А если те души, изуродованные, исковерканные, испуганные, то и младенцы будут, как на этих страшных картинках. Хотя не только насильственной смертью исковеркана душа. У того, кто сделал эту насильственную смерть возможной, душонка тоже не белая и ажурная, как кружевные салфетки, что вывязывает крючком Таня. Даже если в итоге умрешь тихо, мирно в постели, от банальной простуды, вместо тебя на свет появится вот такой урод».
Виктору снились его старые сны, о которых он в последнее время стал забывать. Они причудливо переплелись с изображениями уродливых младенцев. Просыпался он с колотившимся сердцем, задыхаясь, как от спринтерского бега, а все тело болело от беспрерывного и непривычного лежания. Когда он очередной раз проснулся, задыхаясь, Женя, сонная, с готовностью поднесла ему таблетку.
– Не надо, – отвел он ее руку. – Я уже здоров, – с охотой Виктор выпил воды. – Последний раз вот так болел в детстве, с шарфом, горчичниками, горячей картошкой, над которой надо было дышать и потеть.
– А что родители? – осторожно спросила она, поправляя на нем шарф. – Мама не приезжала тебе помогать?
– Я не общаюсь с родителями.
– Давно?
– Несколько лет, – Виктор говорил так сухо, что все дальнейшие расспросы казались неуместными.
Но Женя решилась:
– Почему?
– Им не нравится мой образ жизни, – он констатировал данность. По его интонации Женя так и не поняла отношение Виктора к этой данности.
А ей, как любой женщине, хотелось ощущений, а не фактов. Он говорил почти все время монотонно, почти без интонаций, это немного напрягало Женю. Она пристально всматривалась в его лицо и глаза, но и там не находила того, что искала.
– Ты вроде не пьяница, не наркоман…
– А ты хитришь, – улыбнулся он. – Окольными путями пытаешься выпытать? Нечего разузнавать. И незачем, – он отрубил ее последнюю попытку.
Разочарованная, Женя прижалась к нему и скоро уснула. А он лежал с открытыми глазами и глядел в квадрат окна, чуть подсвеченный уличными фонарями.
Проснулся от шума. Запыхавшаяся Женя уронила на пол стопку книг.
– Извини, – смутилась она. – Я не хотела тебя будить. Есть хочешь? Сейчас в магазин сбегаю.
– Заканчивай с уборкой, я сам схожу, – Виктор встал, расправил плечи. – Да не пугайся. Здоров я. Какой сегодня день?
– Ты уже неделю у меня, – Женя смахивала пыль со своих «инквизиторских» книг. – Ну что же, сходи. Свежий воздух полезен. А ведь тебе, кроме формы, и надеть нечего. На улице уже снег, а ты в плащике.
– Я быстро. Вот только твой шарф возьму, – он сунул список покупок в карман и ушел.
Снег лежал на земле и облепил ветки деревьев. Сощурившись, Виктор смотрел на снег и лужи на асфальте. В них плавали обломки мутного льда. Виктор стоял так долго, что большие кисти его рук покраснели от холода.
В электричке он согрелся, а перед входом в военкомат стянул с шеи шарф и спрятал его в карман.
Клавдия Матвеевна встретила Виктора как ни в чем не бывало. Вышла из-за стола, одергивая кофточку и незаметно разминая ладонью поясницу.
– Поправились, Виктор Сергеич?
– Нет еще, – хрипло, неожиданно севшим голосом ответил он. – Меня никто не искал?
– Федотов звонил из главка. Мамаша Лунёва каждый день приходит. Неужели она думает, что мы не призовем ее лоботряса?
– Больше никто? – Виктор подошел к столику с почтой и поворошил письма и газеты.
– А кто должен был? Нет, никто, – Клавдия Матвеевна с достоинством поправила прическу. Она бы обиделась, но сочла, что военком после болезни рассеянный, ведь раньше он не позволял себе усомниться в ее компетенции. Хоть и молодой, а ценит ее секретарские качества военкомовского цербера.
– Принесите мне документы по Лунёву, – Виктор зашел в свой кабинет.
Вынул шарф из кармана, аккуратно сложил его и убрал в ящик письменного стола. Затем он внимательно изучал справки, анкеты, характеристики, копии документов из личного дела Лунёва. Курил, смахивая с бумаг случайно упавший пепел. Курил до тех пор, пока сигаретная пачка не опустела. Скомкав ее, он поставил резолюцию на заявлении Лунёва с просьбой об отсрочке на год.
Клавдия Матвеевна, забирая личное дело, прочла резолюцию.
– Не узнаю вас, Виктор Сергеич. Что-то вы сентиментальны стали. Извините, – вздернув подбородок, с папкой под мышкой, она покинула кабинет.
Надо было разобрать накопившуюся почту и документы, и Виктор не заметил, как стемнело за окном. Спохватился, когда перестал различать буквы, и пришлось включить настольную лампу. Запахло нагревающейся пылью и снегом из открытого окна.
Виктор вышел из кабинета и в приемной стал одеваться. Клавдия Матвеевна только сейчас заметила, что он в легком плаще. Пожала плечами, но, привыкшая к причудам военкома, промолчала.
Знакомая надпись «Слава труду!» скрывалась за снежной пеленой. Фонарь между домами слезливо щурился на двор и старый дом сквозь разыгравшуюся пургу.
Виктор продрог и не задержался на пороге дома. Да и сигарет не было, как и денег, чтобы их купить. Он медленно, сутулясь сильнее обычного, поднимался по лестнице. Звонко щелкнул дверной замок наверху. Послышались легкие шаги. Виктор остановился.
– Где ты был? – испуганным шепотом спросила Зина. Она стояла в накинутом на плечи пальто с голыми ногами в розовых тапочках. – Я ходила, помогала. Не могла же я их бросить.
Хлопнула входная дверь в подъезде.
– Потом поговорим, – Зина стремительно взбежала на этаж.
Виктор вошел к себе в квартиру и прислушался. Бубнило радио. Сережка на кухне шелестел учебниками. К этим звукам примешивался еле слышный перестук металлических вязальных спиц.
Может, и правда время остановилось? Провал секунд и минут, глубокий, бесследный… Ничего другого никогда не было. Мелодия спиц прервалась.
– Витя, это ты? – раздался из комнаты спокойный, такой всезнающий голос Тани. – Зина приходила. Там на кухне полные кастрюли и сковородки. Есть вот только некому. Мы с бабушкой плохие едоки. Надежда на вас с Сережкой. Справитесь? – на последнем слове голос ее едва заметно дрогнул.
Виктор опустился на табурет, закрыл лицо руками, но тут же отвел их и бодро ответил:
– Если не отравлюсь Зинкиной стряпней, то съем все. Я голодный.
Он прислушался, но Таня снова стала постукивать спицами. Их перестук звучал, как включенный секундомер. Виктор сидел, тяжело облокотившись о колени, ссутулясь и сцепив пальцы больших рук.
Секундомер спиц стремительно щелкал, клубок вращался, катался по полу вправо-влево, как маятник. Но нить неумолимо закончится, мелькнет ее распушившийся хвостик. Мелькнет лишь секундной вспышкой, упавшей снежинкой, которая падает только один раз. Снегопад за окном усиливался, он совсем скрыл старый дом, фонарь и погрузил все в белую сырую холодную мглу начала зимы. Долгой зимы. Она всегда бывает долгой в маленьких заброшенных городках.