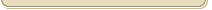Акция Архив

Литературная премия журнала "Север"
Лауреатами литературной премии журнала «Север» за 2023 год стали Анатолий Ерошкин (Петрозаводск – Краснодар), Егор Перцев (г. Олонец, Республика Карелия), Николай Полотнянко (г. Ульяновск).

3 марта стартовал молодежный конкурс журнала «Север» «Северная звезда»-2024



Позвоните нам
по телефону
− главный редактор, бухгалтерия
8 (814-2) 78-47-36
− факс
8 (814-2) 78-48-05
"Север" № 09-10, стр. 177
Судьба мне дарила и муки, и радости...
Иван КОСТИН, ЛИЧНЫЙ АРХИВ
Иван КОСТИН
г. Петрозаводск
«Судьба мне дарила и муки, и радости...»
Помню я себя с 4-5 лет... Некоторые страницы раннего детства встают перед глазами особенно выразительно. В праздники в доме собирались гости. Такие праздники справлялись дважды в году. Это были престольные праздники нашей деревни: день святого Кирика и Улиты – 28 августа и день пресвятой Екатерины – 7 декабря. Два слова следует сказать и о деревне. Она называется Хашезеро и впервые в писцовых книгах упоминается с 1496 года, а возникла, надо думать, в начале прошлого тысячелетия. Известность приобрела в 30-х годах прошлого века, когда в ней была образована «Заонежская вышивка», которая в те годы называлась по имени деревни. Там была начальная школа и центральная усадьба совхоза, ставшая в послевоенные годы отделением совхоза. В деревне насчитывалось до тридцати подворий, не считая пяти мелких деревенек, расположившихся вокруг озера одноименного названия.
Когда гости сидели за столом, мать наряду с застольным угощением потчевала их и моими способностями звонко читать стихи. Кто меня к этому приучил, ума не приложу. Скорее всего, сама мать. Ей были знакомы страницы отдельных произведений, в том числе и поэтических. Хотя в школе она не училась, а грамоте довольно сносно выучилась у даниловских старообрядцев, какими были ее дед и отец. Да и как же могло быть по-иному, если ее родная деревенька Пигматка была насквозь пропитана духом староверческого учения. В Пигматке была большая торговая пристань с многочисленными складами для торговли и большое монастырское подворье. Но вернемся к гостям, сидевшим у нас в застольях. Мать объявляла, что ее младший сын Иванушка почитает гостям стихи. Меня ставили на табурет. Из всего, что мне доводилось читать в тех домашних концертах, я запомнил лишь одно стихотворение, которое начиналось так:
Вдали защелкал пулемет
Раскатисто и резко.
Ванюшка коз своих пасет
Вдали у перелеска.
С отрядом красных до зари
Ушел отец в долину.
«Молчи, сынок, не говори», –
Сказал тихонько сыну.
Почему мне запомнилось именно это стихотворение? Видимо потому, что судьбу этого Ванюшки я примерял к своей. И отец мой тоже был участником Гражданской войны и сражался против белых, которые упоминались и в стихотворении :
Шли белые со всех сторон,
И солнце освещало
Полоски золотых погон
Седого генерала.
Откуда появилось в доме это стихотворение? Сошло с календарного листика? Нет, не было в доме никаких календарей. И сколько бы я в дальнейшем ни читал эти стихи знатокам поэзии, никто не мог мне назвать автора. А стихи эти не забылись. Как не забылась и табуретка, стоя на которой я чуть возвышался над столом. Однажды мне она даже вспомнилась во время выступления в шахтерском Доме культуры в г. Инте. Там по заданию редакции журнала «Север» я проводил читательскую конференцию, и, кроме того, пришлось провести свой творческий вечер. Мне невольно пришлось встать за трибуну, поскольку микрофон был установлен на ней. Трибуна оказалась для моего роста высоковатой. Из зала, как я думал, была видна лишь моя голова. Вот тут-то мне и вспомнилась табуретка моего детства, как первая литературная ступенька. Я махнул рукой на трибуну и вышел на сцену. Голос мой не из слабых, и я отлично справился с залом, где все 860 мест были заполнены.
Детство мое совпало с войной, и моя дальнейшая судьба оборачивалась против меня, все делала, чтобы я не мог учиться и уж тем более заниматься литературой. Всю войну я – на школьных «каникулах». Иными словами, в условиях вражеской оккупации русские школы не работали. Как мы жили? Просто выживали. И, слава богу, выжили. А когда война закончилась, мы уже были подростками, и думать приходилось не об учебе, а о приобретении профессии, чтобы как-нибудь пробиться к городской жизни. Слишком уж в наших разоренных деревнях с нищенскими колхозами она была горькой. В городе тоже медом не кормили. И все же я на всю жизнь остался благодарен ремесленному училищу в Сегеже, где в течение двух лет учился на токаря. Мы изучали физику и материаловедение, элементарную арифметику и даже основы алгебры. Русский язык и литература тоже входили в программу. Но для меня особенно благоприятным оказалось то обстоятельство, что заместитель директора по воспитательной части Дмитрий Толстых организовывал литературный кружок. Это был вчерашний офицер, не успевший еще доносить свою военную форму. Человек разносторонних знаний и талантов, не побоюсь прибегнуть к этому определению. К примеру, он писал, как мне тогда казалось, вполне хорошие стихи. Играл иногда на наших вечерах на пианино. Имел диплом художника, ибо без наличия такого документа портреты вождей для всеобщего обозрения писать не разрешалось. А арку при входе на территорию училища украшали портреты Ленина и Сталина в полный рост, написанные им. Но мало того, он нас всех удивил еще и тем, что возле здания нашего учебного корпуса изваял гипсовую фигуру молодого рабочего. Как и какими судьбами этого одареннейшего человека занесло в Сегежу, осталось невыясненным. Родом он был из Орловской области и, кажется, через несколько лет после нашего выпуска уехал в родные края. С благодарной памятью вспоминаю его длительные беседы со мной, терпеливый разбор моих незрелых и, чего греха таить, не очень еще грамотных строк. Но именно он вдохнул в меня веру в мои возможности, незаслуженно похваливая те или иные строки и образы. А может быть, и пробивалось у меня то, что заставляло неустанно писать, читать и перечитывать русских классиков, и не только поэтов. Словом, начало моей юности в этом городе и было ощутимой литературной ступенькой на длинной-длинной лестнице постижения не только жизненных основ, но и такого притягательного и неуловимого, как принято говорить, секрета творчества.
Памятен такой эпизод. В Сегежу для сбора материалов о лесорубах и сплавщиках приехал московский писатель Николай Кочин. В начале 30-х годов он был известен читателю своими производственными романами с характерными названиями «Парни» и «Девки». Выступил писатель и у нас в училище. Сколько литературных имен я от него услышал: Семен Бабаевский, Виктор Авдеев, Михаил Луконин, Семен Гудзенко; были названы их произведения, и все это вскоре мне предстояло прочесть. А на следующий день прямо от станка из учебной мастерской я был вызван к директору училища. До этого директор меня никогда не вызывал, и я немного встревожился. Но все сразу выяснилось, когда я вошел в кабинет. Там сидел уже знакомый мне Николай Кочин. Александр Ефимович Ерлыкин, так звали нашего директора, представил меня московскому гостю как молодого начинающего поэта. Николай Кочин сразу попросил меня что-либо прочесть из моих последних стихов. Это мне сделать было нетрудно, так как незадолго до этого я написал стихотворение о своем училище и о том, как мы постигаем будущие профессии. Стихотворение, конечно, не сохранилось, помнятся такие строки:
Пройдут недели и года,
Быть может, многое забудем,
Но долго-долго помнить будем
О первых опытах труда.
Примечательно, что уже в самом начале я пользовался и перекрестной рифмой. Писатель похвалил стихотворение и нашел, что у меня есть поэтические способности. А когда узнал, что образование у меня всего пять классов, посетовал, сказав, что для занятий литературой следует хотя бы на первых порах получить среднее образование. Мне же в ту пору и оно казалось недоступным. И все же пожелание писателя я исполнил, но для этого потребовалось немало времени. Но пока оно было против меня и диктовало свои условия, с которыми я вынужден был считаться.
В 2005 году меня пригласили выступить учителя Кяпписельгской средней школы в Кондопожском районе. Повод для приглашения был не совсем обычным. В Сегежском ремесленном училище в одном наборе со мной учился в группе электриков Анатолий Макарьев из поселка Кяпписельга. Мы стали друзьями. И даже после выпуска, когда я по распределению остался на Сегежском бумажном комбинате, а он уехал в родной леспромхоз, друг друга из виду не теряли. Переписывались, изредка встречались. Я неизменно высылал ему свои книжки, выходящие в разных издательствах. Самого Анатолия уже давно не было в живых, а мои письма к нему и книжки в семье хранились. И когда его внук Алексей уже учился в 8 классе, он рассказал учительнице Надежде Мошниковой о нашей дружбе с его дедом и о моих книгах, хранящихся в семье. Меня пригласили в школу, и, конечно, дело одним посещением не ограничилось. Познакомили со школьным музеем. И для него я привез свою редкую фотографию, где мы с Анатолием шестнадцатилетние красуемся в парадной форме.
А что касается Сегежи, то и сегодня посещаю этот город с особым душевным трепетом, потому что здесь были:
И первый друг, и первая любовь…
И возвратясь сюда из дальних странствий,
Чтобы начать все с чистого листа,
Взволнованно скажу : «Сегежа,здравствуй!»
Ты – наша воплощенная мечта.
Нет, начинать все с чистого листа уже поздновато, но ведь и в пору моей юности наше поколение многое сделало для сегодняшнего развития комбината, с которым росли и городские кварталы, поднимая над лесной глухоманью залитые огнями этажи современных зданий. И разве не ради этого мы жили в тесных бараках, мирились с нехваткой всего и вся. И все же наша трудовая юность была прекрасной. Уже спустя многие и многие годы я совершенно искренне писал: «Она была и ветреной и бедной, но только нищей духом не была». Сегодня в цехах комбината уже нет моих ровесников. Редко-редко встретишь их на улицах города. И это уже другой город и другое поколение.
Но я еще не хочу в своих воспоминаниях расставаться с Сегежей. Там состоялось мое первое знакомство с карельской литературой. Библиотека в училище получала журнал «На рубеже», и через него я узнал имя Виктора Чехова, автора популярной в те годы повести «На правом фланге». Познакомился с творчеством Антти Тимонена, Александра Линевского, со стихами Бориса Шмидта и Алексея Титова, Александра Иванова и Юлии Николаевой. Там же, в Сегеже, но уже будучи молодым рабочим, познакомился с первым, что называется, живым поэтом – Алексеем Титовым. Узнал о его приезде в редакции районной газеты и уже на следующий день поспешил к нему в гостиницу с тетрадкою скороспелых стихов. Поэт, видимо, скучал в гостинице. Телевизоров тогда не было, да и радиоточки были не во всех номерах. Разговор у нас получился душевный и продолжительный. Ничего определенного о моих стихах он, понятно, сказать не мог. Лишь похвалил несколько удачных строк и рифм. Зато его рассказ о своей ленинградской молодости и о том, как он сам начинал писать, я слушал с большим интересом. А спустя четыре года, когда я отслужил в армии и после демобилизации обосновался в Петрозаводске, у меня уже имелся повод встретиться с ним как со старым знакомым.
И еще в Сегеже примерно в то же время у меня состоялась еще одна памятная литературная встреча. Фольклорист Кирилл Чистов, в те годы молодой, блестящий кандидат филологических наук, работал в Институте языка и литературы Карельской академии наук. В Сегежу он приехал собирать фольклор, зная о том, что большинство молодых рабочих города, живущие в общежитиях, это вчерашние деревенские парни и девушки. У многих были альбомы с записями народных частушек и песен, пословиц и личных впечатлений. И он неутомимо читал эти тетради, делал выписки, беседовал с молодыми людьми. Меня он, видимо, несколько выделил и пригласил на беседу в гостиницу. Как и с поэтом Титовым, разговор был неспешный и обо всем. Меня интересовало творчество в то время молодых Михаила Сысойкова, Георгия Кикинова, Владимира Аристова, Алексея Авдышева. И Кирилл Васильевич подробно, как мог, рассказывал о развитии творчества этих и других поэтов.
Примерно за год до приезда Чистова в Сегежу вышло известное печальной памятью постановление ЦК КПСС по докладу А. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». Напомню, что основной удар был нанесен по творчеству Михаила Зощенко и Анны Ахматовой. В каких только идейных и художественных грехах они не обвинялись! После обсуждения и одобрения этого документа писательской и литературной общественностью (все, что в те годы исходило из высших партийных органов, как правило, одобрялось единогласно), эти писатели на долгие годы выпали из нашей литературы. Вспомнил я об этом документе потому, что в разговоре с Кириллом Васильевичем заговорил о Зощенко. Некоторые рассказы этого писателя я читал еще в деревне. А по общежитию гулял его томик рассказов, и я прочел его за два вечера. Имя Зощенко было еще известно и по его приезде в Петрозаводск весной 1947 года с группой известных ленинградских писателей, среди которых были, к примеру, Ольга Берггольц и Александр Прокофьев. Они приняли участие в первой послевоенной конференции писателей Карелии, которая заменила собой съезд и закрепила организационные основы жизни и работы Карельской писательской организации. Об этом событии писали наши газеты и журналы. А имя Зощенко уже и тогда было известно широкому читателю. А вот имя Анны Ахматовой мне ни о чем не говорило, как, думаю, и большинству моих сверстников. Насколько я помню, постановление в рабочей среде никаких толков не вызвало. Я лично этот документ принял как должное. Наивность моя в вопросах политики граничила порой с глупостью и слепотой. Поэтому я и задал Чистову вопрос, почему же Зощенко смеет до сих пор заниматься переводами и ему эту работу доверяют? Как раз в то время в его переводе вышла повесть финского писателя Майю Лассила «За спичками».
Чистов это обстоятельство объяснил мне примерно так: постановление партии не ставит целью уничтожить писателей. Они же не враги народа, просто допустили идейные и литературные просчеты. А талант того же Зощенко со счетов не сбросишь. И жить ему как-то надо. Вот и позволяют ему заниматься переводами. В чужое произведение он свои взгляды не внесет. Возможно, и сам Чистов искренне в те годы верил в мудрость руководящей и направляющей партии и считал, что партия решила группу ленинградских писателей направить на путь истинный. Не знаю. Во время наших дальнейших встреч в Петрозаводске и у меня на родине в Заонежье мы к этой теме не возвращались. Надеюсь, что время меняло взгляды и самого Кирилла Васильевича. В этом легко убедиться, сравнив первое издание его обширной монографии о жизни и творчестве сказительницы Ирины Федосовой, вышедшей в издательстве Карельской АССР в 1955 году, со вторым, тоже увидевшим свет в этом же издательстве в 1988 году.
Кирилл Васильевич был не только замечательным фольклористом, но и тонким литературным критиком. Его статьи о поэзии и сегодня читаются с интересом, выдавая в нем прозорливого критика и литературоведа. Его выступления на писательских собраниях и съездах отличались глубиной творческого анализа, заостренной полемичностью и объективностью суждений. К этому времени, а речь идет о начале 60-х годов, он уже был доктором филологических наук и заведовал сектором фольклористики в Карельском научном центре. Вскоре он подал документы на конкурс по замещению должности директора Института этнографии СССР и выиграл его. Работая в городе на Неве, одновременно стал главным редактором журнала «Советская этнография». При любой возможности приезжал в Петрозаводск. Встречался со своими бывшими коллегами по работе, писателями. Горячо одобрил мое желание написать повесть о жизни и сказительской судьбе Ирины Федосовой. Я приступил к работе. Это была середина 80-х годов. И по мере того как я обогащался фактическим материалом и погружался в работу, время от времени своими открытиями или сомнениями делился с ним в письмах. Он отвечал обстоятельно, не формально, с аккуратностью истинного интеллигента. И когда рукопись у меня была готова, он вызвался стать официальным рецензентом, к большому удовольствию издательства «Карелия». Повесть, может быть, с не очень удачным заголовком «Слово вольное поведаю» в 1986 году увидела свет. О заслугах Чистова перед фольклористикой и литературой Карелии могут рассказать сегодня еще многие ученики и почитатели его таланта.
В своих беседах мы с ним говорили о многом, вплоть до упадка сельскохозяйственного производства и угасания наших деревень. Но, как я уже говорил, вопрос о постановлении ЦК КПСС о ленинградских журналах не заходил. И о Зощенко мы, соответственно, тоже не вспоминали. Но о том, в какой атмосфере происходили его гражданская казнь и изгнание из рядов советских писателей, я позволю себе такое воспоминание.
Весной 1982 года с группой московских и ленинградских писателей я побывал в Испании. Был среди них Георгий Мунблит, автор ряда книг и сценариев когда-то широко известных фильмов. С ним у нас и возник разговор о судьбе Зощенко. Мунблит был с ним хорошо знаком. Соседствовали не то дачами в Комарово, не то квартирами в городе. И вот один из эпизодов, о которых мне поведал Мунблит.
Спустя какое-то время после этого печального постановления Зощенко был приглашен на прием к генеральному секретарю Союза писателей Александру Фадееву. Следовало все-таки решить его литературную судьбу. В гостинице «Москва» для него было заказано место. Приехал Михаил Зощенко из Ленинграда и поселился в шестиместном номере. Не прошло и получаса, как раздался телефонный звонок. Трубку взял один из старожилов номера.
– Писателя Зощенко можно пригласить к телефону?
– Среди живущих в нашем номере нет предателей народа,– отчеканил в трубку этот патриот-старожил.
– Обождите, это я – Зощенко,– и он поспешно перехватил трубку.
Разговор был недолгим. Писателя приглашали на беседу в секретариат Союза писателей. Можно предполагать, что после этой беседы Зощенко решили оставить в покое. В том смысле, что ничего авторского не печатали, но не мешали заниматься переводческой работой, что и позволяло ему выжить.
А вот с одним из ленинградских писателей, которого это постановление коснулось непосредственно, мне довелось встретиться в 1972 году, и не у себя на родине, а в Швеции. Это был мой первый заграничный выезд. Я оказался в небольшой группе ленинградских литераторов, которую возглавлял уже и в те годы широко известный писатель Федор Абрамов. С нами был и Александр Хазин. В журнале «Ленинград» он опубликовал пародийное стихотворение на образ Евгения Онегина, оказавшегося в послевоенном Ленинграде. Вот Онегин едет в трамвае. Кто-то его грубо толкнул, кто-то наградил неприличным словом. Дворянская честь и самолюбие не позволили ему оставаться безответным. Он решил наказать наглецов, вызвав их на дуэль. Уже готов был бросить обидчикам перчатку вызова. «Но кто-то спер его перчатки. За неименьем таковых смолчал Онегин и притих». Только эти строки я запомнил.
– Как отразилось на вашей жизни и литературной судьбе то пресловутое постановление?– спросил я Хазина. А надо сказать, что действовало оно вплоть до 1962 года.
– Да не очень,– ответил он, – может, еще и потому, что я не был членом партии. Меня даже не исключили из членов Союза писателей и не лишили хлебной карточки, как это сделали с Ахматовой и Зощенко. Не печатали тоже долго. Пришлось писать многое под псевдонимом…
На самом же деле Александру Абрамовичу испытать в литературной своей судьбе пришлось куда больше и выдержать испытания покруче. Это я понял, прочтя предисловие Даниила Гранина к роману Хазина «Был слышен его пулемет». Кроме романа, в книге опубликовано и несколько рассказов. Эти произведения характеризуют его как прирожденного сатирика и пародиста и как серьезного художника слова. Вот что, в частности, писал Д. Гранин: «От Жданова досталось многим ленинградским писателям. В выражениях Жданов не стеснялся… Но больше других гневного внимания удостоился Александр Хазин». Я не буду цитировать это предисловие дальше, заинтересованный читатель сам найдет возможность раскрыть эту книгу и вместе с предисловием прочесть произведения и самого Александра Хазина.
…Я был одним из немногих самых активных книгочеев города и в читальном зале районной библиотеки появлялся чуть ли не каждый день. Работницы зала привыкли ко мне, а поскольку мои стихотворения стали появляться не только в районной, но и в республиканской молодежной газете, стали выдавать и те книги, которые выдавать не рекомендовалось. Так я впервые познакомился со стихами Сергея Есенина и даже прочел какой-то сборничек Анны Ахматовой, но тогда ее стихи никакого следа в моей душе не оставили. Наоборот, я с увлечением читал сборники стихов Льва Ошанина, Евгения Долматовского… Вкус мой в те годы еще не позволял в полной мере оценить природно-органическое слово А. Твардовского, образно-угловатую насыщенность строк М. Луконина. Совсем не знал Антокольского и Сельвинского, Луговского, да и многих других действовавших поэтов.
Любил ли я город своей юности? Полюбил скорее позже, на расстоянии, а живя и работая в нем, об этом попросту не задумывался. И без сожаления покидал его, когда настала пора осенью 1954 года уходить в армию. Честь по чести явился в военкомат. Там дали неделю на прощание с родными и предписали явиться на призывной пункт в Петрозаводске. Явился, как говорится, не запылился. Дополнительный медосмотр и увольнение в город на вечер до 23 часов. А куда пойти? Ни родных, ни знакомых. Центральные улицы еще в лесах новостроек. Смотреть не на что. Пошел с новыми товарищами в кинотеатр «Победа». Там шел довоенный фильм «Антон Иванович сердится», соавтором сценария которого был, кстати, упоминавшийся выше Георгий Мунблит. Фильм очень понравился. Главные роли исполняли Павел Кадочников и Людмила Целиковская. Молодые, красивые, талантливые, они просто не могли нам не понравиться. Я многие годы считал этот фильм самым любимым. Возможно, я – человек с устаревшими вкусами, но сегодня таких светлых и душевных фильмов на экране уже не увидишь. Такое человечное искусство помогало нам служить и преодолевать трудности. А их было достаточно.
Вместе с земляками, петрозаводчанами, сегежанами, кондопожанами, мы оказались в Костроме. Моим однополчанином был и Алексей Варухин, ставший впоследствии хорошим художником. Служить нам предстояло на Волге в знаменитой воздушно-десантной дивизии, которая прошла в период войны славный боевой путь, отличилась при форсировании Днепра. А командир батальона подполковник Цыганов, командовавший тогда взводом, именно за эту операцию был удостоен звания Героя Советского Союза. Служили мы три года, а на флоте так и все пять. Я уже с первого месяца службы стал автором дивизионной газеты. Несколько экземпляров со своими стихами храню до сих пор. Стал сержантом, получил стрелковое отделение. Сегодня это может быть удивительным, но за все три года я не припомню каких-либо чрезвычайных происшествий, кроме одного трагического случая, когда во время массовых прыжков с парашютами погиб рядовой солдат. Каждый из нас сумел за три года сделать по 25 прыжков, и за каждый из них мы получали добавку к скромному денежному содержанию. Даже эти скромные деньги тратить было не на что, и за три года у меня собралась по тем моим меркам довольно ощутимая сумма.
В своих воспоминаниях я нечасто буду обращаться к стихам, но куда от них денешься, если они связаны с узловыми событиями жизни. О парашютных прыжках я написал несколько стихотворений. Наиболее удачными считаю такие строки:
С седьмого неба я на землю прыгал,
Железную уверенность храня,
Что парашют, мой ангел легкокрылый,
Убережет над бездною меня.
И раскрывался парашют как надо,
И представлялось мне в минуту ту,
Что это наша Бабушкина Ната
Подхватывает нежно на лету.
Ната Бабушкина – знаменитая испытательница парашютов, костромичка. Она испытывала новые образцы парашютов перед войной, на одном из испытаний погибла. Одна из улиц Костромы носит ее имя.
Очень памятным для меня стало знакомство в Костроме с поэтом Николаем Соколовым. Было ему в ту пору лет 35. И был он единственным тогда на всю область членом Союза писателей. Знакомство состоялось в гарнизонном Доме офицеров, куда Николай Николаевич был приглашен заниматься с армейскими поэтами и прозаиками, пробующими силы в литературе. На первое обсуждение я принес подборку, стихи которой не отличались ни содержанием, ни формой. Зато на мне ладно сидела новенькая курсантская форма, и я был весьма доволен собой. Николай Николаевич, прочитав мои стихи, критиковать не стал. Наоборот, выделил те строки и те образы, которые ему позволили меня похвалить, и лишь в конце осторожно указал на недостатки. Я ушел окрыленным. Только спустя годы я в полной мере смог оценить его педагогический такт. И когда пришло время самому стать наставником молодых авторов, а только в аппарате Союза писателей Карелии я работал литературным консультантом более десяти лет, начал широко пользоваться уроками Николая Николаевича. Он был в те годы поэтом известным не только у себя на родине. Его поэма «Именем жизни», опубликованная в 1951 году в журнале «Октябрь», вызвала широкое обсуждение во многих литературных изданиях, была выдвинута на соискание Сталинской премии. Недавно я вновь ее перечитал и увидел, что и сегодня она звучит свежо и актуально:
Родная моя, от рассвета сизого
До ночи и снова встав по гудку,
Я мир, как поэму, хочу переписывать,
Раз по сто с мечтою сверяя строку.
Все преграды вселенной любовью разрушу.
Звонкой песней настигну, из дома выманю.
Первомайской звездой загляну тебе в душу,
Перестрою твой город, улицы вымою.
В Сегежу я не вернулся, а приехал в Петрозаводск. Изредка писал Николаю Николаевичу, получал ответы. В одном из них он писал: «Ванюша, горячо одобряю твое решение учиться в вечерней школе. Для тебя это просто необходимо. Я и сам в этом году сел за студенческую парту, поступил в Москве на Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Горького». После этого письма прошло еще года два или три. Я окончил десятый класс и отправил свою работу на творческий конкурс в этот самый институт, о котором мечтал все последние годы. Конкурс выдержал, экзамены сдал. Толкаюсь среди других абитуриентов в вестибюле и с волнением жду, когда вывесят список с приказом о зачислении на учебу в институте. И вдруг глазам своим не верю: идет навстречу Николай Николаевич. Обнялись, разговорились… Оказалось, что Николай Николаевич после успешного окончания курсов был приглашен на работу в институт на кафедру творчества. Был, кажется, заместителем ректора по заочному обучению и вел творческий семинар. С присущей ему доброжелательностью похвалил мои стихи из конкурсной работы. Хотя, честно говоря, хвалить там было нечего. Ни одно из тех стихотворений я не включал в поэтические сборники. Конкурсную работу рецензировали известные в ту пору поэты – Александр Жаров и Лев Ошанин, впоследствии мне доводилось встречаться с каждым из них, и я поблагодарил их за поддержку, которая помогла мне стать студентом этого престижного вуза. Но думаю все-таки, что слово обо мне рецензентам шепнул Николай Николаевич. Он, видимо, первым прочел эту подборку из двенадцати стихотворений и сам наметил рецензентов, находившихся в творческом активе кафедры.
В Петрозаводск я прибыл не из Костромы, а из степей Казахстана. Туда на целинные земли была направлена наша часть за три месяца до демобилизации. Мы убирали обильный в тот 1954 год урожай пшеницы. Разместили нас в большом селе. Столовая работала с утра до позднего вечера, кормили нас обильно. К традиционному солдатскому пайку колхоз выделял молоко, свежий пшеничный хлеб, овощи. Вставали в шесть утра, часом позже приступали к работе. Я с первых дней определился сопровождающим на машину с зерном для сдачи на элеватор или на склад для перегрузки в вагоны. Документацию вел водитель, и я в эти вопросы не вмешивался. Когда требовалась помощь, принимал участие в разгрузке, бегал в поисках нужных лиц, принимающих наш товар. Несколько раз заезжали в Омск, где у водителя была близкая подруга. Я гулял по большому городу и любовался разлетами и чистотой широких улиц. В расположение возвращались к ужину. Степная однообразная дорога на сотни километров убаюкивала, но дремать мне не полагалось. Я должен был своими разговорами занимать водителя, чтобы он не заснул за баранкой. Мои труды и старания были им вознаграждены с достатком. После последнего рейса мы остановились в степи на краткий отдых. Водитель достал из бардачка матерчатый сверток, в котором была толстая пачка денег. Отсчитав, по моим солдатским понятиям, довольно крупную сумму, он протянул мне внушительную пачку с напутствием: «Это честно заработанные. Без всякой булды. Ты мне добросовестно во всем помогал и тоже их заработал. Так что спрячь подальше и до приезда домой никому не показывай. Это тебе не хухры-мухры, чтобы на этот счет с кем-нибудь лясы точить». Вместе с колхозным заработком за три месяца да со скромным солдатским довольствием у меня образовалась порядочная сумма. Эти деньги позволили мне уже в первые дни в Петрозаводске сменить гимнастерку на шевиотовый костюм, кирзовые сапоги на добротные ботинки, а шинель на скромное бобриковое пальто. Старшая сестра Шура, у которой на первых порах я остановился в ее частном доме на Перевалке, осмотрела меня и одобрительно сказала: «Выглядишь настоящим женихом, но с женитьбой не спеши. Осмотрись, найди хорошую работу, а там все приложится. Живи пока у нас. Никто тебя из дома гнать не будет». И я жил, ходил по городу, который за время моей службы неузнаваемо изменился. И прежде всего меня порадовал новый железнодорожный вокзал. Это теперь мы к нему привыкли, а тогда с гордо поднятым над площадью шпилем, с просторными вестибюлями и залами ожиданий, доступным для любого человека рестораном и, наконец, со своим светлым тоннелем, ведущим прямо к платформам, он был визитной карточкой нашего города.
А женихом я был незавидным. Как говаривали у нас в деревне, много форсу, мало росту. Иными словами, за душой ни кола ни двора. Образования никакого, если не считать ремесленного училища, свидетельство об окончании которого не тянуло и на среднее. Один путь – на завод, к станку. С этими думами я в один из дней зашел в редакцию журнала «На рубеже». Она размещалась в одном доме с Союзом писателей и с редакцией журнала «Пуналиппу», выходившего на финском языке. Это двухэтажное деревянное здание находилось на улице Энгельса, через дорогу от гостиницы «Северная». Я робко перешагнул порог редакции и остановился перед столом заведующего поэзией, назвал себя.
– Марат Тарасов, – отрекомендовался завотделом. – Сам здесь только осваиваюсь после окончания Литературного института.
Я с завистью посмотрел на два ромба на лацкане его пиджака. Он, перехватив мой взгляд, добавил: «Не бросая учебу в университете, поступил в московский вуз и окончил почти одновременно».
– Пришлось, наверно, попотеть, – осталось мне похвально посочувствовать.
– Да уж, не без этого,– подтвердил он. – Издал в нашем издательстве первую книжку стихов «На север». Готовлюсь к вступлению в Союз писателей.
Я показал ему свои стихи. На одном он остановился, слегка похвалил, и оно вскоре было опубликовано в журнале. Так состоялось мое вхождение в карельскую литературу.
В конце нашей беседы в редакции появился однокурсник Марата Тарасова по Петрозаводскому университету журналист Валентин Колчин. Сидя на широком кожаном диване, том самом, что через четверть века будет стоять в моем кабинете завотделом поэзии журнала «Север», разговорились. Валентин, узнав, что я безработный, воскликнул:
– Чего проще! Сейчас пойдем со мной в радиокомитет, и я тебя устрою. Там нужны молодые талантливые люди.
Но самое-то главное он не уточнил: достаточно ли у меня образования, чтобы стать журналистом такого солидного органа. Я же просто стеснялся своих пяти классов сельской школы и полагался на то, куда вывезет кривая. Мы с Валентином оказались в кабинете его начальника, председателя Комитета по радиовещанию республики Петра Смородова. Он, к моему удивлению, тут же решил: «Новые молодые кадры нам нужны. Частые командировки вас не пугают? Вот и хорошо», – подвел он итог стремительной беседе и попросил меня взять в приемной у секретаря листок по учету кадров. И опять произошло удивительное дело: он не поинтересовался моим образованием.
Я взял листок и пришел к сестре. Шура, узнав, куда я устраиваюсь на работу, сильно засомневалась. Она была не только старше меня, но и более образованная, до войны успела окончить 8 классов, в послевоенные годы работала воспитателем в детских домах.
– Нет, не нравится мне твой выбор. У тебя же всего пять классов.
– Но ведь и Горький нигде не учился, и Эренбург тоже без образования стал писателем…
Эти доводы ее не убедили, впрочем, не убедили и меня самого, но я решил положиться на судьбу.
А судьба начинала складываться не так уж плохо. На следующее утро я вышел на работу. Радиокомитет тогда размещался в полукруглом здании на площади Ленина. Переступил порог просторной комнаты редакции последних известий. Мне указали на свободный стол и для начала предложили просмотреть толстую подшивку вестника передач, ознакомиться со стилистикой подачи материалов и с темами. А на следующий день я получил от редактора Всеволода Морачевского, впоследствии многие годы возглавлявшего редакцию последних известий на Карельском телевидении, первое задание: сделать репортаж со строительства Дворца культуры Онежского тракторного завода. Я выполнил работу, Всеволод Глебович, исправив несколько фразеологических оборотов, пустил материал в эфир.
Были и досадные неудачи. Вот, к примеру, такой случай. Получил задание написать зарисовку о знатном вальщике леса из Шуйско-Виданского леспромхоза. Я впервые побывал на лесной делянке, ничего толком в технологии заготовки леса не понял, но материал написал с настроением. Всеволод Глебович прочитал и даже похвалил. Но сказал: «В эфир не пойдет!» Пояснил, что для начинающего журналиста я пером владею неплохо, но в материале больше художественного вымысла, а журналист должен отражать реальность, сегодняшний день. Возразить было нечего. И это был еще один памятный урок мастерства.
Но, как ни крути, недостаток образования и культуры я ощущал. Многоопытные мои коллеги – Тамара Макарова, Анна Поттоева, Евгений Покровский, Евгений Жаров – с большим тактом поправляли меня в ударениях, в правильном применении того или иного незнакомого слова. Я охотно воспринимал и осваивал опыт. О Евгении Жарове хочу сказать несколько слов особо. На Карельском радио он оказался после окончания престижного московского института иностранных языков, свободно владел французским и английским. Работал он, правда, в Карелии недолго, но память среди сотрудников оставил добрую. Мы с ним часто говорили о литературе и нашей отечественной, и зарубежной. К своим 22 годам я, наверное, освоил не только школьную, но вузовскую программу. Чтение это было бессистемным, и хотя стройного знания развития литературного процесса дать не могло, зато значительно облегчило учебу и в вечерней школе, и потом в Литературном институте. Евгений настоятельно рекомендовал мне учиться.
Рано или поздно кадровики должны были до меня добраться и проявить бдительность. При заполнении анкеты графу об образовании я оставил чистой, наивно полагая, что это может мне сойти с рук. Не сошло. Мне предложили принести мой аттестат или диплом об образовании, чтобы заполнить в анкете белое пятно. Я про себя только с иронией усмехнулся и промямлил что-то невразумительное, мол, поищу дома. Но плохо искать то, чего нет. Выручило меня благоприятное стечение обстоятельств. Город и его предприятия я к тому времени изучил неплохо, часто бывал на домостроительном комбинате. В парткоме и рабочем комитете меня хорошо знали и стали уговаривать перейти на комбинат, намереваясь избрать освобожденным секретарем комсомольской организации, в которой насчитывалось до двухсот комсомольцев. Я заколебался:
– А что я буду делать до избрания? Да и вообще изберут ли меня, человека со стороны?
Парторгом был Владлен Айдонян, а его молодая симпатичная жена работала в нашей редакции стенографисткой. Видимо, мое «сватовство» состоялось не без ее участия.
– Изберут, – заверил меня парторг. – Человек ты не со стороны, в коллективе тебя уже знают. А до избрания месяца три поработаешь воспитателем молодежных общежитий. К тому же твое избрание согласовано с горкомом комсомола.
Деваться мне было некуда, и я согласился. Оставалось уволиться из радиокомитета, а заодно и показать фигу кадровикам, проявлявшим излишний интерес не только к нашим аттестатам и дипломам. В моей трудовой книжке появилась запись: «Уволен по собственному желанию в связи с переходом на другую работу».
В редакции к этому отнеслись с пониманием и выразили уверенность, что не только не потеряли меня как сотрудника, но приобрели в моем лице активного общественного корреспондента. Так оно и произошло. Тем более комсомольская зарплата была весьма скромной и за счет сотрудничества с органами печати и радио я восполнял прорехи в холостяцком бюджете.
Не успел приступить к работе воспитателем общежития, как был приглашен на беседу к первому секретарю Петрозаводского горкома комсомола Анатолию Прокуеву.
– Учти, Ваня, – без всякой официальности сказал он мне. – Берешься ты за трудное дело. Работа среди молодежи там подзапущена. Это крепкий орешек, который тебе предстоит грызть и грызть…
Орешек и впрямь оказался крепким. Лесопильный цех, где была самая крупная комсомольская организация, оглушил меня гулом пилорам. Деревообрабатывающий цех – гудением станков и пронзительным визгом циркулярных пил… Все были заняты своими делами, и никому до меня не было дела. Или так мне казалось? Некоторый душевный покой обрел в ремонтно-механическом цехе. Здесь все было спокойнее и привычнее для меня. Подошел к станку молодого рабочего Сережи Овчинникова. Он обтачивал крышки заглушек.
– А, наш новый комсорг! Что скажешь? – произнес он, продолжая работать.
– Главная новость, что я – бывший токарь. Значит, мы коллеги по ремеслу. Вот только сомневаюсь, не утратил ли навыки. Все-таки больше четырех лет не стоял за станком.
– А ты попробуй,– Сергей уступил мне место. Операция была несложной, и мои руки автоматически произвели все необходимые движения. Я зажал в патроне новую деталь и так минут 15 постоял за работой.
– Вот видишь, а ты боялся. Все в ажуре.
– Но это несложная работа,– продолжил я разговор. – А вот настроить станок на нужную резьбу, метрическую или дюймовую, ленточную или трапециевидную, или вот сдвинуть заднюю бабку для выточки нужного конуса, это уже с ходу не схватишь.
– Ну, не все из этих операций мне приходилось выполнять. Но в случае надобности все это можно сделать. Вот там у окна работает специалист токарного дела Валька Голиков. С Онегзавода к нам пришел. Тот все может, в случае чего придет на помощь.
– Ладно, буду на досуге заглядывать, а ты мне помогай восстанавливать хотя бы то, что я знал и умел. Возможно, пригодится.
В общежитии, где мне была выделена небольшая комната, я встретил заонежского земляка Мишу Миронова. Был он чуть постарше меня. На комбинате знал всех, считался хорошим мастером – пилоточем в лесопильном цехе. И я к нему с просьбой:
– Михаил, помоги разворошить нашу комсомольскую организацию. Там ведь беда у вас, три месяца не было собраний. Задолженность по взносам прямо запредельная. Молодежная бригада на сортировке в развале.
– С чего начнем? – охотно откликнулся он.
– Для начала собери наиболее активных людей.
– Хорошо, завтра на стыке двух смен пригласим в красный уголок. А с третьей сменой сложнее.
– Ладно, в третью смену ночью я сам загляну во время перерыва. Надо же познакомиться и послушать, что говорят о работе сами ребята.
Так день за днем жевал я черствую горбушку комсомольского хлеба. Будни эти, где разочарования смешивались с чувством удовлетворения, скрашивались встречами с интересными людьми, и не только комсомольцами. Я подружился с водителем директорской машины Иваном Хуттуненом. Бывало, запаздываю на совещание в горком:
– Ваня, подбросишь?
– Да о чем разговор!
Был такой случай. Попросил меня секретарь горкома привезти ему для отопления обрезки стройматериалов. На комбинате они шли на дрова. Нелегко было взять и привезти, но просьба исходила от моего прямого начальника и не выполнить ее я не мог.
– Ваня, выручай, тут такое дело. Без тебя мне не обойтись, и сделать это нужно без ведома директора.
– Ладно, рискнем.
Подогнали директорскую «Волгу» к цеху раскройки сырья и набили ее великолепное нутро презренными колобашками. Накладную у нас, понятно, никто не спросил.
Иван Хуттунен был человеком в своих решениях твердым. И если что задумает сделать, своего добивался.
– Знаешь, надоело баранку крутить и зависеть от настроения своего шефа, хотя он и неплохой человек.
– И куда же решил колеса направить?
–Да никуда. Здесь же на комбинате и останусь. Знаешь, что открывается новый цех по изготовлению древесно-прессованных плит? Вот туда я и нацелился.
Еще бы мне не знать о таком важном для комбината событии! Успешная реализация проекта сулила комбинату немалые выгоды, а строителям такие плиты снились не один год. Они станут вскоре и незаменимым материалом для дачников, о чем могу свидетельствовать на личном опыте. Так вот одну смену этого нового цеха сформировала наша комсомольская организация. И одну из молодежных бригад возглавил Иван Хуттунен. Забегая вперед, скажу, что за успехи в освоении новой продукции и высокие показатели в труде он был удостоен звания Героя Социалистического Труда.
В памяти и сегодня встают многочисленные лица тогдашних моих ровесников, которые в любых делах были рядом. Трудно было представить спортивные состязания или субботник, клубную работу или рейд по молодежным общежитиям без участия сестер Надежды и Марии Семинихиных, баяниста и фрезеровщика Владимира Лукашова, Михаила Миронова и других. В моем архиве сохранилась фотография тех лет – наша комсомольская организация на субботнике по озеленению улиц. Когда сегодня я иду по улице Григорьева, душа моя радуется. По обе ее стороны шумят листвой высокие деревья, а ведь это наша работа тех лет.
Встречались люди с необыкновенными судьбами. И об одной из таких судеб хочется рассказать.
Как-то раз в проходной комбината останавливает меня молодой парень в солдатской шинели. Видать, только что отслужил, подумалось мне. Мы не были знакомы. Но это не помешало ему со всей простотой и непринужденностью обратиться ко мне:
– Слушай, комсорг, выручи до получки, одолжи десять рублей.
Деньги невелики, и все-таки не мелочь. Оклад низового комсомольского работника был всего лишь 690 рублей. Для сравнения: мастер на производстве получал 860 рублей. Директорский оклад в 3600 рублей многим казался огромной суммой. Меня, как уже говорил, поддерживали небольшие гонорары. Так что одолжить десять рублей для будущего приятеля я мог. Вечером встретились в общежитии.
– Будем знакомиться!
– Виктор Толстогузов. Работаю в отделе контрольно-измерительных приборов, – из верхнего бокового кармана его рабочей куртки выглядывал стержень логарифмической линейки.
«Образованный парень», – подумал я. И тут же спросил:
– Ты что окончил?
– Три года службы в армии – чем не образование?
– Ну, это заведение я сам проходил. Я спрашиваю про другое.
– Другого не было. Проще говоря, я вообще нигде не учился.
– Ну уж в начальной-то школе учился? Иначе бы и в армию не призвали.
– И в начальной не учился. А когда призвали в армию, сказал, что имею начальное образование. Проверять не стали, а лишний солдат в строю всегда нужен.
– Да как же ты управляешься с приборами и с этой линейкой?
– Велика ли премудрость! Учиться всему можно, и не только в школе! – С этим я согласился.
– А у меня целых пять классов, – грустно вздохнул я.
– Да, все мы – потерянное поколение…
«Ишь ты, – подумал я, – даже Хемингуэя успел прочитать».
– Какие еще наши годы, – решил я внести в разговор нотку бодрости. – Пойду осенью в вечернюю школу и поступлю в седьмой класс.
– Я тоже пойду, но в восьмой.
– Не круто ли будет?
– Осилю. Все-таки многое освоил самостоятельно.
Так оно и произошло. Я поступил в седьмой, а Виктор – в восьмой класс. И все три года был первым в классе. После школы окончил заочно филиал Ленинградского политехнического института, успешно работал в конструкторской группе на заводе «Петрозаводскмаш». Стал активным членом республиканского общества «Знание», много и охотно выступал с лекциями по вопросам атеизма. Выпустил в издательстве «Карелия» в 1958 году брошюру «Счастье здесь, на земле». В ней он рассказал о своем беспросветном детстве, которое прошло в сектантской семье, о том, с каким трудом он выбирался из паутины сектантского мракобесия. Я приведу небольшой отрывок из книжки, который поможет понять необычность судьбы этого незаурядного человека и его упорство в выходе на дорогу добра и света.
К сожалению, у Виктора что-то не заладилось в семейной жизни, и он уехал в Белоруссию на крупный завод. Возглавил там конструкторскую группу и продолжал лекционную деятельность. Несколько лет мы переписывались, но потом связь оборвалась. Время от времени я раскрываю его книжку вот на этом месте:
«У большинства людей с детскими и юношескими годами связаны лучшие воспоминания… Наш дом стоял на самом краю деревни. Запертые на тяжелые засовы ворота редко пускали в него посетителей. А плотно занавешенные окна скрывали от любопытных глаз все, что делалось в доме… Мне семь лет. Еще год назад научился читать по-славянски. И вот сижу за печкой, читаю Псалтырь. Неясные образы древнееврейского царя и поэта сливаются в нечто сумбурное, расплывчатое и обволакивают сознание глухим туманом. Я силюсь выбраться из этого хаоса, но снова безнадежно увязаю в мудрых словесах вроде: «Готов на лов, аки скимен обитайся тайя и тайных». Что за скимен, почему в тайных? Обращаюсь к старухе: «Тетя Люба, что это такое?» «Много будешь знать, скоро состаришься,– буркнула она в ответ. – Если не дал Бог разума, то других нечего спрашивать».
Читать больше не хочется, невеселые мысли начинают роиться в голове. Всего лишь с прошлого года у нас эта старуха, а как все изменилось за время ее пребывания! Мать окончательно попала под влияние этой фанатичной сектантки.
Затеяли мы однажды с сестрой, которая была на два года старше меня, игру, кто дальше проскачет со связанными ногами. Мать жестоко избила меня. «За что?» – спрашиваю сквозь слезы. «Для поучения. Связанный не убежишь, а поучение во вред не будет». До появления тети Любы мать так сильно меня не наказывала. А о ней она говорила, что ее нам Бог послал и что мы бы без нее погибли…»
Чтобы не цитировать более обширный авторский текст, поясню, откуда взялась эта тетя Люба. Она была фанатичной представительницей секты православно-монархического толка. Секта имела довольно широко разветвленную сеть, по крайней мере, в деревнях Предуралья, откуда Виктор был родом и где испытал на своем ребяческом теле всю жестокую сущность этого сектантства. И вот еще одно свидетельство автора, когда тетя Люба, получившая неограниченное влияние на мать, приказывает наказать мальчика за какой-то «грешный проступок»:
«Мать берет с гвоздя ременную плеть и направляется ко мне. Отчаянно крича, забиваюсь в угол под кровать, все-таки не так больно. После экзекуции я прощен. Но приходится выслушать длинное поучение о том, что дьявол только того и ждет, чтобы я совершил грех».
Но я еще не рассказал о самой важной для меня встрече, произошедшей, когда я сидел в секретарском кресле. Пришла становиться на комсомольский учет молодая миловидная девушка. После окончания петрозаводского медучилища она была направлена на работу воспитателем детского сада, который относился к нашему предприятию.
– Перияйнен Айли, – представилась девушка.
Финские имя и фамилия меня не удивили. На комбинате работало немало финнов-ингерманландцев, и многие из них уже и языком своих предков не владели. Да и девушка говорила без малейшего акцента. Держалась она без малейшего кокетства, просто и естественно. Мне она понравилась, и я пригласил ее не то в кино, не то на танцы в наш Дом культуры. Стали встречаться. Дружили по нынешним понятиям долго, больше двух лет. Со свадьбой не торопились и по той причине, что ни у меня, ни у нее не было соответствующего жилья. Она жила с матерью в крохотной комнатушке двухэтажного деревянного дома на ул. Куйбышева, которого давно уже нет. А я не мог ее привести в свою комнатку в общежитии. Вот тут я и пожалел, что еще задолго до знакомства с ней отказался от однокомнатной квартиры в пользу одной комсомолки, матери-одиночки. Тогда я надеялся, что мне выделят жилье при следующем распределении. Но дело со строительством жилья затянулось, а стало быть, и с получением квартиры тоже. Утешала мысль, что я сделал тогда для человека доброе дело.
Я пошел в партбюро уже к новому парторгу. Высказал ему свою идею о создании одной или двух молодежных бригад для строительства жилья хозяйственным способом, а бригады эти предложил скомплектовать из числа тех молодых рабочих, кто особенно нуждается в жилье. Быстрее и лучше будут трудиться на стройке.
Идея была принята, поддержана директором. По согласованию с городским Советом нам было выделено место для строительства пяти или шести домов на ул. Виданской. Мы эти сборно-щитовые дома на прочном фундаменте возвели быстро. Начали весной, а поздней осенью уже справляли новоселье. В одну из бригад вошел и я, чтобы заработать себе хотя бы однокомнатную квартиру. В том же году я уже учился в десятом классе, и времени на все катастрофически не хватало. По моей настоятельной просьбе комсомольский комитет освободил меня от должности секретаря, но членом комитета оставил, даже заместителем секретаря. Дела я передал Марии Семинихиной и вздохнул с некоторым облегчением.
Никто из нас в бригаде профессиональным строителем не был. Все приходилось осваивать на ходу: быть каменщиком и плотником, землекопом и кровельщиком. Все эти навыки мне пригодились спустя годы при строительстве дачи. Как водится, работу начинали с нулевого цикла, т.е. с копания траншей под фундамент. О высокой культуре общения говорить не приходилось. Тут сказывались недостаток воспитания, образования, жизненная неустроенность. Бывший грузчик транспортного цеха Леха по прозвищу Шнобель скажет бывало: «Будя ишшо два рельса за песком сделаем, и то уже забалденно». В обед в соседней железнодорожной столовой Леха всегда заказывал: «Мне и коклету с гарнитуром». Крайним простодушием и доверчивостью, несмотря на житейскую хитринку, отличался Вася-Румпель. Тот и другой были так прозваны за свои выдающиеся носы. Прозвища были у всех, в том числе и у меня, правда, довольно безобидное. Зная, что я пишу и даже что-то печатаю, с первых дней меня наградили прозвищем «писатель». Я понимал, что в него вкладывался иронический смысл, какой же ты писатель, если держишь в руках лом, а не карандаш, но все-таки это было лучше, чем откликаться на Румпеля или Шнобеля.
Однажды прораб Василий Максимович дает нам с Васей-Румпелем наряд: «Надо погрузить кубометр половой доски и отвезти в Парк культуры для ремонта летней эстрады. Выгрузите и возьмите у завхоза накладную с отметкой о приеме». Привезли, выгрузили, а завхоза все нет. На летней эстраде перед открытием парка оркестранты начинают репетицию. Вот зазвучала трогательно-знакомая мелодия полонеза Огинского.
– Сядем, Леха, послушаем. Делать-то нам все равно нечего.
Сидим как знатоки-любители серьезной музыки. Леха отмахивается от комаров, почесывает ногой ногу. Но слушает, деваться бедняге некуда. Полонез отзвучал. Я спрашиваю напарника:
– Ну как, Леха, понравилось?
– Понравилось, – соглашается он. – Вот только непонятно, зачем тот дядя, который стоял, отгонял комаров от музыкантов палочкой. Лучше бы взял ветку.
Но я не успел Лехе ничего объяснить, как к нам подошел завхоз, посмотрел на доски, расписался в накладной, и мы уехали.
Перед Новым годом мы справили новоселье. Дома, возведенные нашими бригадами, стали называть комсомольскими. И звали так несколько десятилетий. Рассчитанные на 25-летний срок эксплуатации, они стоят и сегодня, отметив уже свой полувековой юбилей. Когда я прохожу по улице Виданской мимо своего дома, где мне была выделена однокомнатная квартира, живо вспоминаются дни строительства, тем более что они почти совпали с началом нашей семейной жизни.
У меня появился свой письменный стол с настольным календарем, кухонный стол, где поздними вечерами и ночами я мог спокойно готовиться к экзаменам на аттестат зрелости, а потом выполнять задания по программе Литературного института. И когда мы окончили десятый класс, не нашлось лучшего места, чем моя скромная квартира, чтобы отметить выпуск. Кажется, нас, выпускников 1959 года, было 17 человек. Все они, начиная с седьмого или восьмого класса, благополучно дошли до экзаменов, а потом окончили институты и техникумы. И даже сегодня, когда пишутся эти строки, с некоторыми одноклассниками мы перезваниваемся. До сих пор отмечаем каждый юбилей нашего выпуска. На 25-летие я написал стихи о нашей вечерней школе, где есть такие строки:
Мы с любовью сыновне-дочерней
Устремляем в минувшее взгляд.
Огоньки нашей школы вечерней
С каждым годом все ярче горят.
Мы упорно тот мир обживали,
И премудрости формул в цехах
Под резцами у нас оживали,
Как слова оживают в стихах.
Одноклассники. Мы все были разными людьми и по воспитанию, и по жизненным устремлениям, и по возрасту. Но годы учебы сблизили нас, и мы друг друга не растеряли. Самому старшему из нас, капитану милиции Алексею Панкрушеву, на день выпуска было слегка за тридцать, а самой молодой Тамаре Сухаревой всего двадцать. Она стала врачом-терапевтом высшей квалификации и сегодня продолжает трудиться в одной из поликлиник. Как врач, готова в любую минуту прийти на помощь своим стареющим друзьям, бывшим одноклассникам. К нашей общей печали, недавно ушел из жизни весельчак-баянист Владимир Лукашов. Он после школы успешно окончил Петрозаводский машиностроительный техникум и многие годы работал на «Петрозаводскмаше», а последние пять-семь лет возглавлял базу отдыха завода в местечке Сямозеро. По сей день общаемся с Верой Гристиной и Зиной Ершовой.
Учителя. Преподавание в вечерней школе было нелегким хлебом. Одни из них уходили, появлялись новые, в том числе и студенты-старшекурсники наших вузов. Больше всех мне запомнился молодой физик, студент 4 курса нашего университета Анатолий Хахаев. Он приходил на урок и прямо с порога начинал импровизировать: «Летит камень и падает со скоростью…», и далее развивает мысль о его кинетической энергии и еще о чем-то, мне непонятном, и выводит на доске свои мудреные формулы. Я не любил физику, а все эти формулы меня просто повергали в уныние. Но мне было интересно его слушать, а это значит, и что-то усваивать. Ко мне, пишущему стихи, он относился сочувственно. Лишних знаний не требовал и ставил твердую тройку, реже – четверку. Боялся, что на экзамене перед комиссией я могу срезаться. К его удивлению, на все три вопроса я ответил исчерпывающе полно и задачу решил правильно. Члены комиссии были склонны поставить мне пятерку. Но душа истинного физика не выдержала: «Костину – и четверки за глаза!» Позже Анатолий Хахаев стал кандидатом, а потом и доктором наук.
С особым чувством благодарности вспоминаю свою бессменную учительницу литературы Зою Михайловну Суламееву. Она была из тех редких учителей, кто любит не только свой предмет, но и своих учеников. Она горячо и решительно одобряла мое увлечение поэзией и даже предсказывала успехи. Литературу, в особенности классическую, знала в совершенстве. И не только литературу, жизнь писателей, круг их интересов и знакомств. Однажды на уроке я рассказывал о жизни Онегина, точнее раскрывал его образ, и, помимо требований программы, упорно проводил мысль о том, что образ Онегина невозможно понять в полном объеме и глубине без знания жизни и творчества самого Пушкина. Помню, мой ответ настолько понравился Зое Михайловне, что она прямо заявила на уроке: «Лучше Костина я не расскажу». После нашего выпуска она со своим мужем, офицером, выехала далеко за пределы Карелии. Жалею, что не смог ей подарить ни одной из своих книжек.
Все учителя в частных разговорах иногда признавались, что с нами им работать легче, чем в дневной школе. В самом деле, мы знали, зачем сели за парты, и каждый шел к своей цели без понуканий. Случалось, что мы на уроке вовлекали учителя в обсуждение какого-либо события. Незабвенный Никита Сергеевич скучать стране не давал. Многие его инициативы вызывали неофициальные споры и дискуссии. Тот же план по строительству коммунизма в нашей стране равнодушных не встретил.
Помню приезд Хрущева в Петрозаводск. Накануне Алексей Панкрушев сказал: «Завтра в 12.30 пополудни в Петрозаводск прибудет поезд с Хрущевым. Он следует в Мурманск с рабочей поездкой, а в наш город заедет всего на несколько часов. Я назначен ответственным за правое крыло оцепления перед лестницей вокзала. За линию оцепления можно пройти только по пропускам. У кого есть желание увидеть горячо любимого Никиту Сергеевича в пяти шагах, могу устроить». У меня в тот день была ночная смена, и я выразил желание встретиться с вождем. Его популярность к тому времени несколько потускнела, но он был еще на подъеме. Я к нему относился скорее хорошо. Но в горячих спорах и разговорах с тем же Виктором Толстогузовым многое из его начинаний осуждали. Слишком уж он любил все перестраивать и переиначивать. Очень нам были по душе в те дни строки Твардовского из его еще не опубликованной поэмы «Теркин на том свете»: «Список бесконечный в Комитете по делам перестройки вечной». Мы, конечно, понимали, что комитет – это не что иное, как Политбюро, возглавляемое тогда Никитой Сергеевичем.
И вот я стою у лестницы перед центральным входом вокзала. Поезд прибыл. Многотысячная толпа петрозаводчан заполнила все пространство привокзальной площади, которая еще не носила имени Юрия Гагарина. Наиболее проворные оседлали крыши домов. Люди замерзли в ожидании. Шутка ли сказать, со времен Александра I никто из высших государственных деятелей столицу Карелии не посещал. Люди хотели не только лицезреть дорогого вождя, но и послушать его выступление.
И вот он вышел, остановился невдалеке от лестницы. Я оказался с ним совсем рядом и не скрою, что в те минуты испытал чувство душевного подъема. Это сегодня мы привыкли к тому, что первые лица государства запросто общаются с людьми, даже в семьи на чай заглядывают. Проявления такого демократизма были и у Хрущева. Он мог позволить себе сфотографироваться с преступником и взять с того слово, что последний исправится. Мог сказать добрые слова и пожать руку свиноводу или хлеборобу. Он вообще многое мог и в своих поступках был далек от стандарта политического деятеля его ранга. Но вернусь к встрече на вокзале. Хрущев был хмур и неприветлив. Вид у него был усталый, выступать даже с приветственным словом он не собирался. А когда все же к нему попытались поднести микрофон на длинной ножке, он лениво отмахнулся и ограничился молчаливым знаком приветствия, помахав рукой.
Движение транспорта в центре было перекрыто, обкомовские машины ждали высоких гостей тут же, на площади, и этот участок находился под особой охраной. Личные охранники вождя демонстративно хозяйничали, на глазах у тысяч петрозаводчан они унизили местных чекистов и тщательно осмотрели багажники машин, салоны, а потом отстранили наших водителей и посадили своих. Кортеж с гостями в сопровождении карельских руководителей двинулся осматривать город.
Две ошибки, допущенные Никитой Сергеевичем в Петрозаводске, авторитета ему поубавили. Отказавшись сказать хотя бы коротенькое приветственное слово, он пренебрег желанием тысяч людей услышать его. Вторая ошибка была более существенной. Осмотрев город, не входя в особенности его развития, экспромтом посоветовал строить больше зданий из дерева и как вариант: первые этажи из кирпича, остальные наращивать деревянным брусом. Наши руководители вежливо промолчали.
Но я вынужден вернуться назад на несколько лет. Я ведь пишу не сюжетную повесть со строгой последовательностью событий. Стиль воспоминаний прямо-таки заставляет свободно двигаться по жизненному полю.
Самым памятным, как сказали бы сегодня, знаковым, для меня стал 1959 год. В начале года я справил новоселье. У кого не было до 27 лет своего угла, меня поймет. В этом же году я окончил десятый класс, у меня в руках оказался выстраданный аттестат зрелости, и я мог поступать в любой вуз необъятной страны. Я предпочел Литературный институт, ради которого так долго тянулся к аттестату. Еще в мае был объявлен творческий конкурс для поступления. Я подготовил подборку из двенадцати лучших своих стихотворений и с трепетом стал ожидать ответа. В конце июня получил уведомление, что конкурс я выдержал и должен письменно подтвердить свое желание о сдаче экзаменов для поступления в институт. Подтвердил и сразу получил вызов, что по закону тех лет давало мне право на освобождение от работы на период сдачи экзаменов с выплатой среднемесячной зарплаты и бесплатный проезд. Это было большое благо для студентов-заочников. Я ехал в столицу поступать в институт, о котором столько лет думал и который казался временами недостижимым. Сдам ли экзамены? Там ведь тоже свой конкурс, и приедут со всех концов страны не какие-нибудь деревенские недотепы, а люди талантливые, не ради забавы желающие получать свои дипломы. Особенно я беспокоился за свой немецкий язык. Преподавали его в вечерней школе через пень-колоду, к тому же давался он мне трудно. Тут уж приходилось надеяться на русское «авось» и на то, что вдруг я окажусь не самым слабым.
И все же настроение было приподнятое, праздничное. Я ехал в Москву второй раз в жизни. Я мог бы оказаться в столице в марте 1953 года. Тогда мне в армии дали поощрительный отпуск на десять дней с поездкой на родину и выписали проездной билет через Москву. Сколько ликования было в душе: увижу Кремль не на картинках и в кино, а своими глазами. Но мечтам этим помешала смерть Сталина. Многие поезда отправлялись в обход Москвы, наш состав пошел через Вологду.
Так получилось, что впервые я сподобился побывать в Москве в августе 1957 года на Всемирном фестивале молодежи и студентов с группой комсомольских активистов Карелии. Разместили нас в Ружейном переулке в общежитии ремесленного училища. Не стану описывать пестроту фестивальных дней и событий. Все проносилось, как в гигантском калейдоскопе. Долго гордился тем, что не только за руку здоровался с неграми из Африки, но и беседовал с ними через переводчика. Рассказывал им о Карелии и Петрозаводске. Побывал на территории Кремля и увидел много исторических диковин. Нашел сутки, чтобы побывать в подмосковном Лыткарино. И вот по какому поводу.
Однажды в июне того года я гулял по Онежской набережной с Владимиром Морозовым, красивым и кудрявым молодым поэтом, автором уже двух книжек.
– В августе еду на всемирный фестиваль в Москву, – похвастался я. – Что советуешь посмотреть?
– Походи по музеям, побывай на территории Кремля, если повезет. Но обязательно приезжай ко мне в Лыткарино. Я там теперь живу у тестя и тещи. Чудесные люди. Тесть – отставной полковник. Теща – бывшая учительница. И на их дочери Елене бог меня вразумил жениться. Она тоже студентка нашего Литинститута. Переночуешь у нас, и мы все вместе Москву фестивальную посмотрим.
Я съездил в Лыткарино, побывал в гостеприимном доме Розовых, и Москву фестивальную в тот день я смотрел вместе с четой Морозовых. Володя знакомил меня со своими друзьями, заходили в мастерские художников. Побывали в издательстве «Молодая гвардия», где он только что издал книжку «Стихи». Взял десять авторских экземпляров и тут же в коридоре на подоконнике сделал надпись: «Дорогому Ванюшке Костину с пожеланиями больших творческих успехов!»
– Володя, а когда ты мне свой Литературный институт покажешь?
– Поехали.
И вот мы на Тверском бульваре, 25. Я входил в небольшой внутренний дворик с душевным трепетом. Это ведь отсюда вышли знаменитые поэты Константин Симонов и Михаил Луконин, Василий Федоров и Александр Яшин, сколько других славных имен!
– Посиди с Леной на скамеечке, а я сбегаю на кафедру творчества.
– Может быть, через два года я тоже переступлю порог этого особняка. Он ведь когда-то принадлежал отцу Герцена? – спросил я у Лены.
– Да, это бывшее герценовское семейное гнездо, а теперь вот целый институт в нем разместился. Правда, институт наш совсем маленький. На очном отделении едва ли наберется 200 студентов. Может быть, столько же заочников. А почему ты решил поступать только через два года?
– Я ведь только что восьмой класс закончил.
– Тогда желаю, чтобы твоя мечта осуществилась. Учиться здесь интересно. Главное, встречи, среда и все остальное по-домашнему, не казенно.
Мимо нас прошел статный высокий старик с широкой окладистой бородой.
– Это наш дворник и ночной сторож. Человек легендарный. Личность колоритная, известная всей старой Москве. В фильме Пудовкина «Александр Невский» он играет небольшую роль. И в сцене битвы Александра Невского с чужеземцами наш дворник изображал русского богатыря, круша своей палицей врагов направо и налево.
– Вот обменялись сборниками с Людой Щипахиной, – сказал, подходя к нам, Володя. Мы направились к Пушкинской площади.
Никаких знаменитых писателей я в те дни в Москве не увидел, разве что произошла встреча с Евгением Винокуровым, но и он в ту пору ходил еще в ранге молодого поэта. Я решил несколько стихотворений показать в журнале «Молодая гвардия». Зашел в отдел поэзии, представился.
– Евгений Винокуров, – отрекомендовался сотрудник. – У вас стихи?
Я протянул ему несколько от руки написанных страниц. Читал он вдумчиво и терпеливо. Я уже знал многие стихи Винокурова и ценил их. И потому любой его отзыв для меня был важен.
– Ну что же, – сказал он, – способности у вас есть, и нужно смелее их развивать. Для журнала пока еще не тот уровень, но отдельные места и образы мне нравятся,– и отдельные строки зачитал вслух.
– Вы приезжий?
– Да, из Петрозаводска.
– Появится что интересное, присылайте.
Ушел я без огорчения, скорее слегка окрыленный. Напечататься в этом журнале мне не удалось, да и присылал ли я туда что-либо, не помню. Но в №4 за 1974 год в нем появилась рецензия известнейшего матерого поэта Рюрика Ивнева на мой четвертый сборник «У Онего среди перелесиц». Рецензия называлась «Отчим словом дорожа». Я был обрадован и удивлен. Где мог Рюрик Ивнев увидеть мою книжку? Позже выяснилось: мой товарищ по Литинституту Иван Лысцов, друживший со старым поэтом, как-то раз, придя к нему домой, стал читать ему стихи из моего сборника. Что-то старого мастера задело, и он решил сказать свое слово.
Вот такие воспоминания сопровождали меня на пути в Москву, когда я ехал сдавать экзамены, еще не предполагая, как все будет складываться. А начинало складываться все самым наилучшим образом. Поезд прибыл ранним утром. Ехать мне было некуда, и я с вокзала направился прямо к дому Герцена на Тверском бульваре. Спустя годы я написал об этом:
В жизни памятна эта минута,
Чтоб ни делать, куда б ни идти,
Как влетел я во двор института
Прямо с поезда после шести.
И только я вошел во дворик, вижу, по дорожке с метлой движется этот самый русский богатырь, громивший врагов земли русской своей могучей палицей. Теперь вместо палицы он держал массивную метлу. Глянув на меня, спросил:
– Откуда такая ранняя пташка?
– С поезда. По вызову для сдачи экзаменов.
– Ну, тогда сиди и жди, пока канцелярия откроется. И я минутку с тобой посижу. Работаю здесь уже больше двадцати лет. Многих директоров я пережил. Самым строгим и заботливым был Федор Гладков. Выпивох не щадил, чуть что – сразу отчислял.
Когда я писал это стихотворение, не упустил возможности сказать в нем и о строгости Гладкова:
Был он строгий и к выпивкам зоркий.
У меня спросит самую суть:
«Чьи студенты там томики горькой
В переплетах стеклянных несут?»
Удивительно осведомленным о всех делах института был этот добрый старикан, и его любили студенты. Загулявшие за полночь, иногда приходили ночевать в его сторожку во флигеле, так как общежитие после полуночи закрывалось наглухо.
– Едут сюда все с большими надеждами. Но большинство уезжает после выпуска без особых иллюзий. Сам посуди, в творческом семинаре по 10-12 студентов, а писателями и половина не становится. Да еще к кому в семинар попадешь. Если к Светлову – сделает из тебя человека. А к Сельвинскому – пиши пропал. Человек умный и талантливый, а заговорит тебя, запутает, что и не поймешь свою истинную суть. Ладно, наговорил я тут тебе. И желаю хорошо сдать экзамены. Тогда еще не раз встретимся и покумекаем.
Через полчаса я предъявил вызов и получил направление к коменданту общежития. Троллейбус № 3 без пересадок довез меня до улицы Добролюбова, что находится в районе Бутырских хуторов. Поселили меня в просторной комнате с двумя кроватями. Вторая пока оставалась пустой, но в тот же день появился еще один постоялец – из Казахстана, но истинный русак прозаик Виктор Подойницын. А на следующий день в комнату внесли третью кровать, и на пороге появился невысокий коренастый молодой человек:
– Будем знакомиться. Моя фамилия Ляленков. Зовут Владимиром.
Мы с первого дня подружились. Сдавали экзамены, вместе готовились. Оба они уже имели высшее техническое. Подойницын работал в конструкторском бюро на заводе, Ляленков был прорабом крупного строительства в городе Пикалево Ленинградской области. Имел уже ряд публикаций в газетах и ленинградских журналах. Подойницын же привез большую стопу рассказов пока еще в рукописном виде и хотел походить по столичным редакциям. Мы быстро подружились – два прозаика и поэт. Но прозаик Ляленков часами мастерски читал Маяковского. Иногда мы направлялись в Парк культуры имени Горького. Заходили в чешский павильон, где тогда подавали пельзенское пиво со шпикачками. Выпивали по кружке – другой и с веселыми разговорами возвращались в общежитие. Ходили в соседний кинотеатр «Орел».
Виктор Подойницын удивлял своими фокусами с картами. Слух о его удивительных успехах в этом жанре быстро распространился по общежитию, и в иной вечер посмотреть феноменальное чудо в комнате собиралось до десяти человек. Виктор брал в руки колоду карт, долго и тщательно ее тасовал. Делал снова по два-три подреза и вновь тасовал. Все молчали: вот-вот начнется главное действо. И оно начиналось. Виктор передавал колоду карт кому-либо из присутствующих, а сам ложился на кровать и погружал лицо в подушку.
– Тяни любую карту из колоды,– просил он.
– Снял, что дальше?
– А дальше буду отгадывать, что ты вытащил. – И он погружался в свои какие-то тайные мысли. – Ты вытащил даму бубей!
– Точно. – И все присутствующие убеждались в этом.
– Кто следующий тянет?
– Я, – откликался кто-то из гостей комнаты. Вынимал из самой середины колоды. – Вот вытащил, отгадывай!
– У тебя в руке девятка крестей.
– Верно!
И так продолжалось до тех пор, пока Виктор не отрывал лица от подушки со словами:
– Устал. Больше не могу, боюсь, голова разболится.
Ребята расходились, и каждый по-своему старался дать объяснения этому феномену. Я сам никакого разумного объяснения этому найти не мог.
Однажды перед очередным экзаменом спросил:
– Виктор, а нужный номер билета ты смог бы вычислить?
– Там свои сложности. Предварительно я должен их подержать в руках, потасовать, как карты, узнать, сколько всего номеров и какие. И это ничего не даст. Номер, допустим, угадаю. А содержание? Уж легче подготовить ответ.
Мы съехались из разных концов России: Роман Харитонов из Воронежа, Иван Сенников из Новосибирска, Иван Лысцов из Липецка, Николай Касьянов из Омской области, Олег Семко из уральского города Троицка, Василий Белов из Вологды. Белов жил в соседней комнате и часто заходил вечерами. Cклонный к полемике Владимир Ляленков вступал с Василием в длительные дискуссии о жизни и литературе, они спорили, кто из современных тогда писателей пишет правдиво, а кто занимается лакировкой. Ляленков был настроен более критически и говорил о необходимости радикальных перемен. Белов с этим соглашался лишь отчасти. Выверенная трезвость мысли уже тогда проявлялась в его взглядах, а публикаций тогдашних его я не видел, если они вообще были. И когда строитель Ляленков начинал что-либо категорически отрицать, вчерашний секретарь сельского райкома комсомола Василий Белов спрашивал его:
– А твои предложения? – и таким простым вопросом нередко ставил собеседника в тупик.
С Василием у меня возникли доверительные отношения. Я удивился схожести наших биографий. Одногодки. Тому и другому учиться помешало трудное послевоенное житье. Оба познали в детстве и юности тяжелое бремя колхозной жизни. Ушли из деревни получать производственные профессии. Он стал плотником, я – токарем. У него есть такой рассказ «Иду домой». Там он описывает, как за метрической справкой вынужден был из родной деревни за сорок верст идти по разбитым дорогам, чтобы еще с трудом эту справку получить. Это и моя история! И я за пятьдесят верст из своей деревни Хашезеро ходил в тогдашний райцентр Заонежья, чтобы получить эту самую справку, правда, без трудностей. Там председателем сельского совета работала моя двоюродная тетушка. Мало того, она оставила меня погостить, и я целую неделю жил в кругу родственников.
Однажды Василий заходит в комнату с приглашением:
– Пойдем. Сегодня в Третьяковке открывается выставка Рериха.
Ничего до этого я о Рерихе не слышал. Но промолчал об этом, боясь обнаружить свое невежество. Мы долго ходили по залам выставки и рассматривали работы этого художника. Большого впечатления они на меня не произвели. Холодные краски полотен и мир, на них изображенный, были далеки от моей внутренней сути. С тех пор вкусы мои изменились, знаний прибавилось, но Рерихи – и тот, и другой, не стали моими художниками. После посещения выставки зашли в редакцию журнала «Юность». Василий был знаком с поэтом Николаем Старшиновым, который, кажется, и рекомендовал его для Литинститута после творческого семинара молодых писателей в Вологде. Потом посетили ГУМ. Я там купил круглую меховую на бархате шапку-боярку и был весьма доволен этим приобретением.
Экзамены я сдавал успешно вплоть до того дня, когда проснулся с подлым настроением: вот и настал час расплаты. Хватит ехать на Парнас зайцем! В коридорах в этот день было тише обыкновенного. Возле дверей экзаменаторской толпилось человек пять. Вдруг среди нас возникает юная оживленная особа лет восемнадцати:
– Да вы не бойтесь, ребята, мама у меня не очень строгая. Она ведь понимает, что не в посольстве будете работать. Может, кому помочь?
Я ринулся к ней:
– Милая девушка, помогите мне. Я приехал из Петрозаводска. Окончил там вечернюю школу. Немецкий язык преподавали неважно. Учительница часто болела. Вот и боюсь, что на нем я срежусь.
– Ладно, попробую шепнуть мамочке. Как ваша фамилия?
Я назвал. И юное существо проскользнуло в дверь. Пробыла там минуты две-три и вновь появилась среди нас. Не знаю, что она сказала своей мамочке, но мне слегка подмигнула и устремилась к выходу.
Я назвал фамилию и вытащил билет. Текст для перевода примерно на страницу машинописного листа был не из трудных, слова и без перевода понятные, речь шла о центре Москвы и о том, что в нем расположено. «Ну, ладно,– подумал я, – хоть с переводом не провалюсь». Два других вопроса отправляли меня в свободное плавание. Но делать нечего, к столу я подошел бодро. Еще раз назвал фамилию и с нагловатой уверенностью сказал, что к ответу готов. Преподаватель Морозова, красивая женщина с седеющими волосами, кивнула головой и приготовилась слушать. Я сделал перевод и прочитал. Конечно, он был далек от совершенства, но она не перебивала, не делала замечаний. Вот когда я приступил к ответу на другие вопросы, тут она стала собеседницей. Я по тону понял, что она стремится не утопить меня, а вытащить из водоворота мало мне знакомых фраз и созвучий. Видно, и в самом деле юное существо обо мне успело шепнуть мамочке. Морозова сказала:
– Ну что же, тройку я вам выставлю, но заниматься вам придется серьезно.
Я окрыленный вышел из экзаменаторской, думая о том, что уж с одной-то тройкой меня, пожалуй, зачислят.
Через несколько дней были вывешены списки фамилий. К великой радости, я в них увидел и свою. Таким образом, из абитуриентов мы превратились в студентов. И все же мы были не совсем обычными студентами. Если самой молодой из нашего курса Татьяне Глушковой не было еще и двадцати лет, то Павлу Краснобрыжеву из Краснодарского края перевалило за тридцать.
На оставшиеся деньги я накупил разной московской снеди, экзотической формы графин с французским вином и утром следующего дня, к радости жены, вернулся домой. Скромным семейным ужином мы отметили мое поступление в институт, после чего, как об этом ни толкуй, для меня начался новый этап жизни. Забот прибавилось. И поскольку я поступил на заочное отделение, уже с началом учебного года на мой адрес с завидной регулярностью стали поступать программы, задания по контрольным, рефератам, курсовым, материалы по круговым творческим семинарам. И это меня только воодушевляло. Я был молод и неутомим. Ночами просиживал на своей кухоньке, то читая пухлые романы Бальзака, то трагедии Шекспира. И это при том, что каждый день нужно было ходить на комбинат, становиться на восемь часов за станок, с одним в ту пору выходным. О смене работы пока некогда было думать. И вновь я погрузился в заводскую жизнь со всеми ее сложностями.
В Союзе писателей меня тепло поздравили с поступлением в институт. Я был уже несколько лет автором журнала «На рубеже» и участником нескольких коллективных сборников. Не за горами была и моя собственная книжка, но я с ней не спешил. Что-то о моей рукописи скажет мой будущий творческий руководитель? А в журнал после приезда из Москвы принес даже не стихи, а очерк на заводскую тему, которая в те годы была беспроигрышной, при условии, конечно, приличного исполнения. Внешняя легкость этой темы многих пишущих обманула, и человек, слабо владеющий пером, сделать на ней себе имя и карьеру не мог. В середине 50-х и в начале 60-х годов в карельской литературе тогда появлялось немало обещающих имен. Было обостренное чувство творческого соревнования. Из общего потока заметно выделялись стихи Эрика Тулина, Виктора Потиевского, Олега Мишина, Евгении Крохиной, Виктора Сергина, Елены Николаевой, Сергея Штемберга, проза Николая Федорова, Олега Тихонова, Виктора Соловьева, Анатолия Самылина. Позднее своими стихами стал радовать юный Юрий Линник, ярко проявился молодой прозаик из Кондопоги Борис Кравченко.
Все мы, начинающие или молодые, проходили в те годы крепкую школу литературных объединений и творческих семинаров на совещаниях молодых писателей республики. Они проводились с завидной регулярностью раз в два года, и последнее из них в 1999 году было восемнадцатым по счету. Но к разговору о них я еще вернусь, поскольку последние десять лет был душой и организатором их по должности литературного консультанта и председателем общественного совета по работе с молодыми литераторами и авторским активом.
Думаю, что не только занятия в литературных объединениях дали мне многое. Хорошо помню свой самый первый приход на занятие литобъединения, которым в середине 50-х годов руководил критик и блестящий журналист Всеволод Иванов. Я предложил на обсуждение несколько своих стихотворений. Их быстро прочли. Доброжелательность превышала критические замечания, и я разомлел от удовольствия. Но тут слово взял незнакомый мне студент 2 курса пединститута Олег Мишин и подверг мои вирши тщательному разбору. Отметил стилистические погрешности, неудачные рифмы и заметные влияния других известных поэтов. Убийственно для меня он приводил похожие образы и повороты мысли из Ваншенкина, Соколова, Гамзатова. Я слушал и думал: «Ишь ты, все читает, и помнит, и учится, поди, на отлично». Выйдя из помещения, мы познакомились. Выяснилось, что живем в одном районе на улице Широкой, которая спустя несколько лет была названа именем Патриса Лумумбы, а потом и вовсе проспектом Октябрьским. Хочется сказать словами Пушкина, когда он говорил про лицеиста Пущина: «Мы положили часто видеться». И действительно, мы положили часто видеться и видимся по сей день. А ведь с той поры прошло 55 лет. Редко кто может похвалиться таким долголетием дружеских отношений в творчестве. На небе нашей дружбы с Олегом Мишиным не возникало тяжеловесных туч, разве что порой пробегали легкие облачка, не оставляя заметного следа. На первых порах мы даже решили кое-что написать вместе. Так легче пробиваться, думали мы. И начали с крупного, как теперь говорят, проекта. Пришли в обком комсомола к заведующему отделом агитации и пропаганды Анатолию Германову. Поделились своими задумками.
– Тут, ребята, и гадать нечего. Поезжайте на строительство Выгостровской ГЭС возле Беломорска. Это как раз то место, где писатель Александр Линевский петроглифы обнаружил. На реке Выг есть порог Золотец. И там под этим же названием уже растет поселок строительной станции. Недавно туда в полном составе прибыл выпускной класс Сумпосадской средней школы. Чем не тема для творческих поисков?!
Мы с ним согласились. Дело для нас оборачивалось самым наилучшим образом. Он отвел нас в финансовый сектор, и уже на следующий день мы получили командировочные. Анатолий Германов знал, о чем говорил. Он еще совсем недавно был первым секретарем Беломорского райкома комсомола и лично принимал участие в формировании молодежных бригад на этой стройке.
По просьбе обкома комсомола, а тем паче обкома партии на комбинате командировки с сохранением заработка мне предоставляли без слов. И это было хорошей отдушиной в монотонных заводских буднях.
И вот мы в Золотце. Нам выделена светлая однокомнатная квартира со всеми удобствами в только что построенном двухэтажном доме. Дом еще полностью не заселен, но мы уже начинаем общаться с новоселами: техниками, инженерами, специалистами. Побывали на приеме у директора строительства, знатного в те годы гидростроителя Леонида Утрецкого. Пошли по участкам. А вечером в общежитии выслушиваем рассказы вчерашних школьников о своих первых трудовых шагах. Видим, им пока трудновато. Много физической работы, но они не ноют и не боятся трудностей. И не случайно, когда мы потом писали поэтический репортаж, который можно было назвать и поэмой, в нем появились такие строки из письма юной строительницы к матери: «До сих пор земля меня носила, а теперь сама ее ношу».
Тогдашнему редактору журнала «На рубеже» Всеволоду Иванову наше поэтическое детище понравилось: «Так и надо вторгаться в жизнь, а не на городском асфальте искать темы». И он напечатал репортаж в одном из номеров 1959 года. Хотя, к слову сказать, ни я, ни Олег Мишин по асфальту зря не шаркали. У меня прочно шла рабочая тема, и у него тоже. Мать его еще во время войны работала на военном заводе в Сибири литейщицей. Потом в Шале Пудожского района и в Петрозаводске крутилась возле горячих печей, и он нередко бывал у нее, не только наблюдая за ее работой, но и помогая по мере подростковых сил. Если раскрыть наши первые с ним книжки, можно увидеть, что человек труда в них занимает главное место. Кто-то шутливо назвал нас «пролеткультовцами». Ничего обидного в этом не было. У поэтов Пролеткульта еще и в двадцатые годы были свои достижения.
С первых лет работы над стихотворным словом у нас в Карелии были неплохие наставники. Это, прежде всего, поэты старшего поколения Алексей Титов и Борис Шмидт. Оба они были представителями ленинградской поэтической школы довоенной еще поры. После войны обосновались в Карелии. Борис Шмидт по творческой командировке выехал в Карелию. Край очаровал его, и он свою будущую творческую жизнь связал с ним. С годами, пройдя период ученичества, я стал его молодым другом. У нас было много совместных поездок за пределы Карелии, я чуть позже расскажу о них. А пока продолжу свои воспоминания о встречах и совместной работе с Олегом Мишиным. Кроме этого репортажа, мы написали несколько стихотворений, и все они были опубликованы или в журнале, или в газетах. Это тоже было творческой школой, когда нужное слово или образ ищешь вместе, требования возрастают. Кроме того, ты с интересом следишь за ходом мысли товарища и чему-то у него учишься. Но это был незначительный период совместного сотрудничества, в основном, каждый работал самостоятельно, хотя читали и показывали друг другу все написанное. Снисхождения не проявляли, и оценки выставлялись по самому высокому счету. В чем-то были максималистами, в чем-то оказывались неправы во взаимных претензиях, но эти издержки сполна окупались желанием помочь товарищу. Я радовался его успехам так, словно сам был к этому причастен. У него выходили книжка за книжкой. Но он постоянно и упорно расширял свое литературное поле. Окончив аспирантуру, стал кандидатом наук и несколько лет плодотворно работал в Институте русского языка и литературы Карельского научного центра. Написал немало литературоведческих работ. Но главным и в те годы, я думаю, для него оставалось поэтическое творчество. О его переводческой работе и особенно о работе по переводу эпоса «Калевала» (совместно с литературоведом Эйно Киуру) разговор особый. Я об этом много раз и подробно писал, повторяться не стану. Скажу лишь, что, занимаясь этой поистине титанической работой, Олег Мишин находил время и для стихов, полемических текстов, и для участия в творческой жизни писательской организации. Более того, два срока подряд с начала девяностых годов он был председателем нашей писательской организации. Надеюсь, что об этом периоде своей жизни и работы Олег найдет время поведать сам. И мне еще придется говорить не только о встречах с ним, но и о совместной работе. Но это будет уже потом, а пока я вновь возвращаюсь к своей заводской жизни.
Когда сегодня средства массовой информации говорят неустанно о какой-то модернизации, техническом прорыве, мне это напоминает призывы ЦК КПСС к широкой механизации рабочих процессов, к научно-технической революции и повышению производительности труда. Но как начинал я в Сегеже в начале пятидесятых годов работать на старом станке, который по несколько раз в месяц выходил из строя, так на таком же станке и продолжал гнать стружку на домостроительном комбинате, тоже с завидной регулярностью вызывая слесарей-ремонтников. В конце концов мне это ремесло понемногу стало опостылевать, хотя я терпеливо ходил в цех даже в ненавистную третью смену. Зайдя однажды в рабочий комитет, услышал восторженные поздравления: «Ты занял первое место во всесоюзном конкурсе в журнале «Мастер леса» за стихотворение «Крановщица» с присуждением тебе премии. Поздравляем!» Это стало известно на комбинате, и на меня стали смотреть чуть по-иному. А когда мой друг Анатолий Гордиенко, работавший уже в ту пору на Карельском телевидении, сделал небольшой фильм с названием «Рабочий, поэт, студент», мой авторитет еще возрос. Следом прозвучала и радиопередача с моими стихами, над которой работала молодая тогда еще журналистка Наталья Ларцева. Эти незначительные литературные успехи скорее раздражали моих мастеров. Стоило мне на пять минут опоздать, мог последовать упрек:
– Это же завод, а не литературный клуб.
Допущенный незначительный изъян в одной из десятка деталей неизбежно вызывал ироническое замечание:
– Шлифовать нужно не только рифмы, но и детали.
Но я продолжал работать, стараясь не обращать внимания на мелкие обиды. Да и что они значили по сравнению с той радостью, которую принесло рождение дочери. Решили назвать ее в честь моей мамы Елены Васильевны, умершей в конце войны в сорок два года. Многочисленная родня со стороны жены Айли, которую все ближайшее окружение с моей легкой руки называет Аллой, вместе с поздравлениями принесла разных пеленок-распашонок, которых хватило бы и для второго младенца, но мы, увы, ограничились рождением одной дочери. Лена родилась в начале декабря 1959 года. Радость радостью, но места в нашей квартирке поубавилось. И кухонька окончательно превратилась в мой кабинет. Худо-бедно, но именно там, за небольшим столиком, возникли лучшие строки моих творческих работ по институтской программе, которые потом войдут в мой первый сборник. Именно здесь были выполнены все мои контрольные и курсовые работы. Здесь я набирался ума-разума у лучших книг, которые следовало прочесть. И когда в цехе на перерыве в курилке ребята спрашивали, что интересного я узнал и прочитал, я в сжатой форме пересказывал тот или иной сюжет. Однажды рассказал и о датском принце Гамлете и его матери-королеве, которая после смерти мужа – короля, отца Гамлета, не успев стоптать туфли, в которых шла за его гробом, оказалась в объятиях его брата. Я рассказывал, наверно, с увлечением, потому что только накануне прочел эту трагедию. Ребята слушали, и вдруг Серега Кононов из кузнечного цеха не выдержал и с презрением в адрес дяди Гамлета разразился грубой бранью:
– Ну, какой подлец. Да такого бы у нас не только из партии выгнали, но и с работы бы уволили.
– Да и королева тоже хороша стерва, постыдилась бы своего взрослого сына. Вот так и у нас, – продолжил обсуждение электросварщик Паша Овчинников. – Иная дамочка накрасится, нафуфырится, а покажи червонец, тут же за тобой и побежит.
– Опять вас Костин от работы отвлекает. А ну марш по местам! Я, что ли, за вас буду план давать?
Первый учебный год пролетел незаметно. Дочка подросла и уже начинала делать по комнате первые шаги. То-то было у нас радости. Я чувствовал, что с программой первого курса справился. Все мои работы были зачтены. И летом 1960 года я получил вызов для сдачи экзаменов и слушания обзорных лекций за весь пройденный курс. Вызывали на целых сорок дней.
Мы снова в одной комнате, теперь уже вчетвером. Виктор Подойницын все с той же колодой карт и свертком неопубликованных рукописей. Иван Сенников с замыслом так и не написанной поэмы о сибирских золотоискателях. Владимир Ляленков учиться не стал. Он нам сразу сказал, что экзамены сдаст и будет проситься на очное отделение. А если не примут с высшим образованием, на заочном не останется. Писать он будет и без Литинститута. Четвертым в комнате оказался Олег Семко. Такой дружной четверкой мы собирались в одной комнате все шесть лет. На двадцать дней приезжали мы на зимнюю сессию и на сорок летом. Этого вполне хватало, чтобы вкусить все прелести московской жизни с ее привлекательными и не очень сторонами. На развлечения времени не оставалось, подготовка и сдача экзаменов требовали времени и напряжения. Жалею, что во многих театрах Москвы так и не побывал, не все примечательные места Подмосковья посетил, не все выставочные залы привлекли мое внимание. Вот о чем жалею, а не о том, что лишний раз не проехал в такси по центру и не читал стихи случайным слушательницам, как это делал мой сокурсник, бывший со мной в одном семинаре, Анатолий Ионкин из Воронежа. Однажды, слегка подвыпивший, он зашел в нашу комнату. Мы сидели, уткнув носы кто в книгу, кто в свои шпаргалки. И Анатолий начинает стыдить нас: «Сидите тут, как кроты в своей норе. А потом будете жалеть, что так скучно и глупо провели в Москве вечера. А я вот сейчас с девочками из медицинского на такси катался. Читал им Блока, потом свои стихи. Они с восторгом слушали. Эх, вы…» По убеждению Анатолия, который, правда, был моложе нас всех и еще холостой, это была красивая московская жизнь.
Первый день семинарских занятий. Заведующий кафедрой творчества Сергей Вашенцев представляет нам нашего творческого руководителя Василия Кулемина. Я знал его стихи, и неплохо. И вот перед нами человек лет тридцати семи. Невысок ростом, чуть полноват. Лицо русского крестьянина, добродушное, несколько широкоскулое. Глаза приветливые, живые. Он коротко рассказывает о себе, а с нами обещает поближе познакомиться во время семинарских занятий. И предлагает для первого общего знакомства прочесть каждому по два-три стихотворения. Нас двенадцать человек. Я обвожу взглядом своих новых товарищей: «Кто же те немногие, из которых выйдут писатели?» – вспоминаю напутствие нашего дворника. Про себя решаю: «Я буду!» Стали читать стихи. Ревниво слушаю, у кого лучше моих. Ага, вот у Семко что-то есть. Читает Анатолий Пескарев из Ленинграда. У него хорошие рифмы. Задорно декламирует Анатолий Ионкин, но стихи пока слабоваты. Но вот встает самый старший из нас, Виктор Некипелов из Ужгорода. Это Западная Украина. Читает, и я немею от удивления, какие сильные, зрелые стихи. «Вот кто будет поэтом», – думаю, уже критически оценивая свои возможности.
И опять разговор берет в свои руки Сергей Вашенцев. Он был участником Зимней войны с Финляндией. Написал об этом замечательные рассказы. Один из его сборников есть в моей библиотеке. Жаль, что имя его уже почти не упоминают. Он был добрым человеком и помогал студентам чем мог.
– Я вижу, вернее, слышу, – начал он, – что в этой комнате собрались люди талантливые, – похвалил он всех авансом. – За шесть лет вы многое приобретете, а от многого и освободитесь. У вас будут опытные наставники, а ваш творческий руководитель Василий Лаврентьевич – замечательный поэт. Он заместитель редактора журнала «Москва». Так что за ваш семинар у меня душа будет спокойна.
Сергей Иванович улыбнулся и предложил нам своеобразный тест не то на память, не то на творческое воображение.
– Думаю, что на своем длинном литературном пути вам придется выступать в самых разных жанрах. Хотелось бы на двух-трех примерах увидеть ваше умение рассказать о каком-либо неординарном случае, имевшем место в вашей жизни. Ну, кто готов об этом поведать?
Меня осенило:
– Можно я расскажу? Кажется, мне припомнилось нечто подходящее.
– Да, мы все внимательно послушаем.
– Когда я поступил в ремесленное училище в Сегеже, есть такой город на севере Карелии, мне было пятнадцать лет. Я уже писал стихи и искал каждый удобный случай почитать кому-либо новые строки. А тут в училище создается драматический кружок. И хотя тяги к сцене у меня не было, я в него записался. Руководить кружком был приглашен старый актер, когда-то работавший в театре Ленсовета. Фамилия его была Золотницкий, а возможно, это был псевдоним. Он охотно слушал мои зеленые вирши и любил повторять: «Вот так и в жизни!» А однажды даже пригласил к себе домой. Это была однокомнатная квартира, состоящая из небольшой прихожей, довольно просторной комнаты и кухни. Усадил меня на мягкий диван. Это был первый мягкий диван в моей жизни, который я ощутил своим телом.
– Мой юный друг, – сказал он мне, – я сегодня познакомлю тебя с некоторыми стихами дореволюционных поэтов. Я ведь человек старый и многих видел. А с Александром Блоком на его Пряжке по вечерам раскланивался. Да, мой юный друг. Позволь я приму свое лекарство.
Венедикт Всеволодович, так звали старого артиста, извлек из буфета пузатый старинный графин и налил себе рюмку коричневой жидкости.
– Так надо, время подошло, – неопределенно сказал он. Выпил, еще больше оживился, и снова о своем возрасте:
– Я ведь, молодой друг, старый человек, даже очень старый.
«Сколько же ему лет? – думал я. – Восемьдесят, а может, и все девяносто?»
– Так я даже пушкинское время помню... Был у него друг Дельвиг. Слышал про такого?
Я кивнул.
– Так Дельвиг, пока свою «Литературную газету» не сделает, насчет этого,– Венедикт Всеволодович кивнул на графин,– ни-ни. А как только отошлет в типографию, открывает шкапчик, достает бутылку «Мадам Клико»…
– Какая мадам? – спрашиваю я.
– Ах, это так называлось французское шампанское. Выпивал два бокала, и снова в шкапчик. А Лермонтова Михаила Юрьевича только раз видел пьяным в доме Карамзиных. Баратынский тот был трезвенник, хотя и считал себя певцом «балов и грусти томной». А Денису Давыдову шумные пирушки прощались, гусаром же был. Вот так и в жизни.
Я слушал старого артиста, раскрыв рот. Вот это да! Он же пришел из той эпохи! Вот будет о чем порассказать ребятам.
– Вот ведь как все устроено в жизни,– снова произнес Венедикт Всеволодович и со вздохом непонятной мне горечи наполнил свою рюмку наполовину. – Пришла пора. А больше сегодня ни-ни. Вот так, мой молодой друг. А с петербургскими поэтами я тебя познакомлю в следующий раз. Почитаю Якова Полонского. У меня с его автографом и книжка есть. Хороший был поэт. Это ведь он написал «Мой костер в тумане светит». Да за одно это стихотворение можно отдать всю сегодняшнюю поэзию. Вот ведь как в жизни!
Так я впервые узнал имя автора этой знаменитой песни. Увидел, что старый артист начинает подремывать. Встал и вежливо попрощался.
– Да-да, мой юный друг, и ты и
ди отдохни. Мы еще встретимся, и ты мне свои стихи почитаешь. Ты ведь из деревни? Вот и чудесно. Пиши о сельской природе, а не об этом вонючем городе, от дыма комбината которого вся Европа уже чихает…
Я осторожно закрыл дверь и медленно направился в свой спальный корпус. Думал и сопоставлял время. И вдруг остановился и громко расхохотался: да никак не мог он жить в пушкинскую эпоху! Я еще не знал в ту пору слова м и с т и ф и к а ц и я, а то бы оно непременно пришло мне на ум. Старый актер от скуки и тоскливой жизни превратился в мистификатора. И кто его знает, кому еще какие байки он рассказывал, но в некоторые из них верил, вероятно, и сам.
Я кончил рассказ. Слушали меня внимательно. Сергей Иванович даже дважды снимал и протирал очки, чтобы, вероятно, получше разглядеть меня. Выждав небольшую паузу, он рассмеялся. Следом за ним и другие.
– Значит, старый актер нафантазировал тебе, и ты поначалу все принимал за чистую монету.
– Да, – смущенно сказал я.
– Ну, молодец он был, ну, оригинал. Да как же его в ваш городок-то занесло?
– Вот этого я не знаю, а спрашивать не стал.
–Да, может, он и не был никаким актером, а просто заурядным аферистом, – усомнился ленинградец Анатолий Пескарев.
– Но он же мне афишу со своей фамилией показывал, где в пьесе Чехова «Чайка» играл роль Тригорина. В училище же его пригласили, в Доме культуры подрабатывал. И вообще, ребята наши его любили.
Потом какую-то смешную бытовую историю рассказал про поэта Кольцова воронежец Анатолий Монкин. Иван Сенников поведал о жизни сибирских золотоискателей. В общем, разговор был дружеский, доверительный и нас сразу сблизил.
Прощаясь с нами, Сергей Иванович посоветовал нам все интересное не держать в памяти, а записывать. Запись – это своеобразный протез тускнеющей памяти. В творчестве все пригодится. Я записал после семинара эту историю, и пролежала она у меня в черновиках много десятилетий. И вот пригодилась.
Следующий учебный год для меня складывался удачно не только в академическом, но и в творческом направлении. Я не имел «хвостов», с трудом, но управлялся с немецким. Принимал участие в поэтических вечерах и даже по командировкам Союза писателей выезжал в районы республики. Одна из таких поездок состоялась в город Беломорск: нашей группой из трех человек руководил один из самых известных карельских писателей Александр Линевский. Хотя слово «руководил» к этому милому, интеллигентному человеку плохо подходило. Если он и руководил чем-либо в жизни, так только своими поступками и желаниями, был со всеми предельно вежлив, в высказываниях корректен, и не припомню случая, чтобы он кого-то обидел.
В этом трио был поэт Георгий Кикинов, уже сложившийся к тому времени стихотворец. Мы выступали в клубах и школах. Александра Михайловича там принимали с особой любовью. Это же он еще в свои студенческие годы открыл в Залавруге, вблизи нынешней Выгостровской ГЭС, знаменитые петроглифы, наскальные рисунки доисторических художников, живших в этих местах. Это же он написал знаменитую дилогию «Бушует Беломорье» о событиях, происходивших здесь в период Гражданской войны и иностранной интервенции. Ему было о чем рассказывать. Я слушал его и невольно думал, что он мог бы прекрасно вести семинар прозы в нашем институте. Но не меньше он нужен был и нашей писательской организации, многочисленным почитателям, и не только в Карелии. Он был трогательно-уважителен к молодым собратьям. Помню, какое внимание проявлял он к Владимиру Морозову, как восторгался его удачами и как огорчался его ошибкам.
Когда Владимир уже после армии учился не на пятом ли курсе в Литературном институте, в августе он появился в Петрозаводске. Мы случайно встретились и стали прогуливаться по набережной, как раз напротив дома, где на проспекте Ленина теперь размещается юношеская библиотека его имени. Опять же случайно мы повстречали Александра Линевского. Стали прогуливаться втроем.
– Как у тебя, Володя, дела в институте? – спросил Александр Михайлович.
Не понимаю, что тогда нашло на Морозова, но он раздраженно ответил:
– Да, знаете, мне надоело слушать лекции, где без конца толкуют, что человеческая эстетика выше животного мира. Словно я и без них этого не знаю. Может, и не буду дальше учиться, раз залпом не получилось, а все силы отдам творчеству.
Александр Михайлович нахмурился, но промолчал. А на следующем писательском собрании с горечью говорил о том, что некоторые молодые литераторы (из деликатности он не назвал фамилии) не хотят получить высшего образования, а кто-то даже готов уйти из вуза. Здесь он явно метил в Морозова. И неожиданно стал нахваливать меня:
– Не так давно я познакомился с молодым поэтом Иваном Костиным и с интересом наблюдаю за его творческим ростом и учебой. Этот молодой человек пять лет просидел за школьной партой в вечерней школе, чтобы поступить в Литературный институт, и успешно учится уже на втором курсе. Вот ему лекции московских профессоров едва ли покажутся скучными и банальными. Я предлагаю включить его в состав комиссии по работе с творческой молодежью.
Предложение было принято. А лет через десять я стал и председателем этой комиссии. Так после беломорской поездки писатель относился ко мне, я бы сказал, с повышенным вниманием. При встречах неизменно спрашивал об учебе, о быте, о том, что я пишу. Поддерживал меня на заседаниях правления, будучи неизменным его членом. А когда нужно было, решительно вставал на защиту. Пример напрашивается сам. Один наш собрат, отличающийся повышенным темпераментом и напористостью, перед которой почему-то терялись и представители старшего поколения, на одном из правлений, используя десять процентов правды, пытался раздуть против меня чуть ли не персональное дело и требовал исключить мою рукопись из плана издательства. Это была уже моя третья книжка, и я, кажется, был уже членом Союза писателей. И тут спокойно-интеллигентный Александр Михайлович встал на мою защиту. А Яков Ругоев, тогдашний наш председатель, поддержал Линевского:
– Не будем из мухи делать слона.
Но мой зоил не угомонился. Выходя из комнаты, он на ходу бросил мне:
– У меня рука тяжелая, и ты это еще почувствуешь.
Да, рука у него и по сию пору остается тяжелой, и многим от нее доставалось. Однако основной фон нашей литературной жизни был чистым, плодотворным. А пример этот я привожу не ради того, чтобы уязвить своего бывшего зоила (кстати говоря, наши отношения на протяжении многих лет не раз переходили из приятельских во враждебные), но лишь с той целью, чтобы показать, что в творческом мире трения и конфликты – неизбежные спутники жизни, и потому что он связан с именем Александра Линевского. Три или четыре дня в Беломорске с ним и Георгием Кикиновым послужили началом освоения мною Севера своего края. Потом я много раз бывал и в Беломорске, и в Кеми, и даже в Мурманске, но острота первых впечатлений стоит на особом месте.
Александр Михайлович заходил, обязательно постучавшись, в наш номер и после приветствий и расспросов приглашал нас в кафе. Каждый заказывал, глянув в меню, по своему вкусу. Я экономил свои небольшие командировочные и выбирал блюда поскоромнее. Да и старшие мои спутники гурманами не были. А когда после трапезы к нам подходила официантка, Александр Михайлович говорил:
– Назовите общий счет. Я расплачиваюсь за всех.
Наши робкие попытки платить самим ни к чему не приводили, он решительно их пресекал:
– Я старший и отвечаю за все, потому прошу подчиняться мне.
Но это было единственное требование.
– Начни я вторую литературную молодость, стал бы писать стихи. С ними на душе веселее. А то вот сижу в номере, читаю скучные научные работы, и порой становится тоскливо. Вы разве не замечаете, что, когда выступаете перед народом в школе ли, в клубе, глаза у людей светятся, а слушают так, словно боятся пропустить.
Это он нас подбадривал. Мы-то понимали, что народ слушал не нас, а его. А иногда погружался в воспоминания молодости, первых работ и открытий, как к нему пришел замысел написать повесть «Листы каменной книги», которую тогда знал каждый школьник Карелии. Спросит во время выступления в школе:
– Поднимите-ка руки, кто прочитал мою книгу?
И весь класс дружно поднимал руки.
– Надо написать такую книгу, – полушутливо говорил он,– чтобы она тебя всю жизнь кормила. Меня вот «Листы» кормят.
Всю жизнь она его, конечно, не кормила, но хорошо подкармливала. Только при жизни автора и только в Карелии эта книга четыре раза переиздавалась. Была даже издана в Америке.
– Сколько же вам, Александр Михайлович, за нее там заплатили? – спросил я у него однажды во время доверительного разговора.
Он улыбнулся:
– Известности чуточку, может, и добавила, а денег ни гроша. Обложили мой гонорар такими пошлинами и налогами, что хватило только на этот портфель, – и он постучал пальцами по желтой коже портфеля, туго набитого статьями и научной литературой.
Однажды, когда наша семья переехала с улицы Виданской на Железнодорожную, он заглянул к нам на чай. Новая квартира была двухкомнатной, с прихожей, с просторной ванной и балконом, к тому же в кирпичном доме. Мы в нее только что вселились и были счастливы. А поскольку не успели еще накопить лишних и часто ненужных вещей, все находилось в идеальном порядке. Даже свою разросшуюся к тому времени библиотеку я сумел разместить так, что она естественно вписывалась в общий интерьер.
– Видно, что вы хорошо устроились. А женушка у тебя, судя по всему, хорошая хозяюшка, – похвалил писатель. Алла зарделась от смущения.
– А тебе теперь в таких условиях творить и творить, – и он одобрительным взглядом обвел мои книжные полки.
Я открыл довольно просторную кладовку и пригласил гостя оценить мои «духовные» сокровища. В те годы я уже увлекался собиранием фольклора и старинных предметов. А тогда Александру Михайловичу продемонстрировал полдюжины икон из Заонежья и некоторые предметы часовенной утвари. В те годы отношение к атрибутам культа было осуждающим. Тем более коммунист этим увлекаться никак не должен. Одно из обвинений моего зоила было как раз по этой линии. Александра Михайловича коллекция не удивила, то есть не удивила тем, что она в квартире писателя-коммуниста. Он даже сказал:
– Это ведь прежде всего произведения искусства, истоки нашей древнерусской живописи. И не обязательно их от глаз людских прятать.
Но я-то решил, что и напоказ выставлять не нужно. Так все это и хранилось у меня в кладовке до переезда в новую квартиру.
В той же беломорской поездке я заметно сблизился с Георгием Кикиновым, который был родом из прионежского села Деревянное, участником Великой Отечественной войны. После демобилизации он окончил пединститут и несколько лет преподавал в школах республики русский язык и литературу. Потом в научном центре редактировал статьи. Стихи писал с юности. Но по-настоящему его лирическое дарование раскрылось в зрелом возрасте. Чувство поэта было пронизано любовью к Родине, к землякам. Потому-то в его произведениях, стихах и поэмах, так достоверно отражено отношение людей к жизни, к своему труду, к природе. Его первая книга стихов «Онежские ветры» вышла в Петрозаводске в 1957 году и сразу выдвинула имя автора в первый ряд карельских поэтов. Он не страдал ни малейшей долей самомнения и о своем творчестве говорил мало и неохотно. Сам же был внимателен к творчеству не только старших, но и молодых собратьев. Еще при первом нашем знакомстве в редакции журнала «На рубеже», когда я по его просьбе прочел несколько своих стихотворений, он особо выделил то, в котором я воспевал деревенского петуха во всей его красе и звонкости голоса. Я помню его одобрительные слова:
– Оно не без недостатков. Но сам ты понимаешь ли, какие возможности в нем уже заложены для создания в будущем хороших стихов?
Он был добродушен, слегка медлителен, говорил неторопливо. Шутки и остроты в разговорах у него прорывались настолько естественно, что заранее их подготовить было невозможно. Вот и тогда сидим мы на диване в редакции. По стеклам лупит дождь, на улицу выходить не хочется. Георгия Васильевича ждет неотложное дело в издательском отделе, мне скоро собираться на смену. Мой собеседник посмотрел в окно и сказал с ноткой сожаления: «Дождь идет, а работа стоит». Не ахти какая блестящая острота, но сказанная к месту, она стала для меня памятной. Или вот еще эпизод. Дали ему на прочтение статью кандидата филологических наук Айно Хурмеваара. «Чем ты сейчас занят на работе, Георгий?» – спросил его при мне тогдашний секретарь Союза писателей Александр Иванов. Кикинов, не задумываясь, блистательно отреагировал: «У самовара я и Хурмеваара». И пояснил, что ему предстоит с ней встреча и разговор.
Или вот едем втроем на машине Союза писателей на выступление в поселок Виданы. В клубе нас ждут, а водитель свернул на развилке в другую сторону. Засомневались, туда ли едем? Спросили у встречного пешехода. Оказывается, следовало повернуть в другую сторону. Разворачиваемся и едем обратно. Георгий Васильевич коротко бросает фразу, ставшую для нас вскоре почти обиходной: «Где это видано, где это гадано. Ехали в Виданы, а попали в Паданы».
Вскоре он поступил на Высшие литературные курсы при Литературном институте. Программа института, втиснутая в рамки двухгодичной учебы, – нагрузка и для здорового человека весьма и весьма нелегкая. А Кикинов, так окончательно и не оправившийся после военных ранений и контузий, стал недомогать. Его положили в одну из лучших клиник Москвы, но и столичные медицинские светила уже не могли ему ничем помочь. Урна с его прахом была доставлена в Петрозаводск, а затем захоронена на кладбище в поселке Деревянное, рядом с могилами его родных. Местные жители чтят его память, проводят по его произведениям творческие вечера.
Георгий Кикинов был ровесником поэта Михаила Сысойкова, тоже родом из большого прионежского села Шуя. Биографии у них были во многом схожи, но жизненный опыт все же был разным, в том числе и опыт военных лет. Дороги огненных лихолетий, видно, сильнее задели душу командира взвода бронебойщиков Михаила Сысойкова, чем рядового пехотинца Георгия Кикинова… Первую часть своего творческого пути Сысойков почти целиком посвятил осмыслению военных событий, исходя из личного опыта офицера, не раз раненного, побывавшего на краю гибели. Только освободившись от этого душевного груза, он приступил к освоению темы родной земли и корневых истоков своей жизни. Одна из его последних книг так и называется – «Шуйские мотивы».
У этих двух поэтов со схожими судьбами характеры были разными. Если первому свойственна была добрая шутка, то для Михаила Павловича был более доступен критический сарказм. Неплохой он был человек, отзывчивый, но часто чем-либо недовольный. И публикуют его не по заслугам мало, и с жильем власти его не могут как следует устроить, и в госпитале к нему не то внимание, которое он заслужил…
За долгую творческую жизнь он наработал опыт стихотворчества. А ему еще хотелось проявить себя и в прозе. Много лет он пытался «пробить» в журнале «Север» свой роман, где документальная основа перемежалась с вымыслом. Но вмонтировать одно в другое он не сумел. В журнале ему указывали на это, но переделывать вещь на корню он согласиться не мог. И только в начале 90-х годов, когда за свои деньги или за деньги спонсора в частном издательстве можно стало издать эту книгу, она вышла в свет. Но и тут издательство потребовало серьезного редактирования.
Штатных редакторов у издательства не было. Стали искать и обратились ко мне. Сам Михаил Павлович, заинтересованный в скорейшем выходе книги, уговорил меня и заверил, что против моих требований и вмешательства в текст ничего иметь не будет. И я согласился, чтобы помочь собрату. Сразу высказал мнение, что это не роман, а набор жизненных фактов и обстоятельств, а потому события можно перемещать ради хоть какого-то динамизма развития сюжета. Эта довольно объемистая рукопись заставила отодвинуть личные замыслы.
Работа была муторная и кропотливая. Большого удовлетворения она мне не принесла, за исключением доброго чувства, что я помог старшему товарищу-фронтовику. Я и заголовок ему придумал, вместо его аморфного «После победы» предложил назвать «Украденная победа». В издательстве согласились и назвали его сильным и коммерческим. Книгу же должны были покупать, а заголовок тут не последнее дело.
После возвращения из беломорской поездки я вновь погрузился в заводские будни. Не успел отработать и полсмены, как команда: «Всем на заводской митинг!» Митинги проводились нередко. То в защиту Патриса Лумумбы, то Анжелы Дэвис, то против поджигателей новой войны.
На митинги мы шли даже охотно. Хоть какая-то передышка, а кроме того, интересно было послушать, что нового скажет оратор из горкома или обкома. Ну, и свои говоруны находились. Каюсь, но и я тоже был этаким говоруном. А куда денешься, если комбинат отпускает с оплатой среднего заработка в творческие командировки? А одни поездки в институт чего стоят? Когда за счет предприятия получает заочное образование будущий инженер, есть вероятность, что он на предприятии и останется. А филолог, историк? И когда руководство цеха просило выступить, я это делал безропотно.
Митинги и общезаводские сходы вносили разнообразие в установившийся ритм. Не так давно, вновь вернувшись к осмыслению трудовой молодости, я написал целый цикл стихов, среди которых есть и «Заводские митинги»:
Очередная пятилетка
Нам намечала путь побед,
И звал на митинги нередко
Нас профсоюзный комитет.
С трибун слова душевной страсти
Звучали, мужества полны,
О коммунизме, общем счастье
И поджигателях войны.
Порою, и не без успеха,
С задорной искоркой в очах
По поручению мехцеха
И я витийствовал в речах.
И представлялась мне воочью,
Высоких помыслов полна,
Со всей своей державной мощью
Необозримая страна.
Перед толпой, в плену событий,
При виде ясных лиц друзей
Я забывал о скудном быте
И о бездомности своей.
Итог эпохи той известен.
Страну постиг печальный сбой,
Но я в речах был прям и честен,
По крайней мере, пред собой.
Однажды, уже поздней осенью, ко мне подошел токарь соседнего ряда станков Валентин Суэтин и предложил:
– Ты ведь заонежанин? Не хочешь ли махнуть со мной на родину на выходной? У меня есть хороший катер с мотором. На денек отпросимся, потом отработаем. Ехать надо вчетвером. Катер просторный. Мотор хотя и надежный, но, если откажет, сядем за весла.
– Заманчиво, но лучше бы летом.
– Да я же не на прогулку приглашаю, а за рыбой. Ряпушка пошла, сиги ловятся. Я знаю эту бригаду рыболовецкую. Купим вина, угостим их как следует, сами выпьем и рыбы начерпаем сколько надо.
– Да где же эти рыбаки промышляют? Неужели под Толвуей у Салостровы? А туда ехать ого-го… – блеснул я знаниями рыбных промыслов своего края, никак не решаясь дать согласия на эту неожиданную поездку.
– Да ты что, зачем туда ехать? Это почти рядом. Есть островная деревня Леликово, недалеко от Сенной Губы. Там и базируется бригада. Тони там замечательные, и рыбу ловят из года в год. Дело проверенное.
– Леликово,– вскричал я,– тогда едем! Я же там в конце войны в детдоме находился. Оттуда меня отец и вывез в свою деревню. Там наверняка еще живут люди, которых я помню.
– Вот и хорошо. Трое нас уже есть. Едет Володька Лукашов. Найдем и четвертого.
Нашли. Отпросились на денек, и вечером следующего дня в тихий субботний вечер наш катер отчалил от одного из соломенских причалов. Валентин уверенно направлял судно в отрытое Онего. Стояла удивительная для второй половины октября тишина. Предварительно мы сбросились и купили ящик водки. Отъехали километров двадцать. Миновали Гарницкий маяк. Валентин поставил двигатель на малые обороты, достал бутылку:
– За удачную поездку по сто грамм не грех выпить.
Выпили с настроением. Путь был не таким уж и близким. Не успели оглянуться, как стали сгущаться октябрьские сумерки.
– Заночуем на островке,– решил наш командир.
Причалили к берегу. Развели костерок недалеко от берега, достали снедь для ужина. Я остался ночевать на катере, остальные дремали у костра. С первым проблеском зари уже были на пути в Леликово. Я с волнением всматривался в очертания острова. Начали проступать контуры домов. Вот и вырисовался купол Богоявленской церкви, а рядом бывший поповский дом, где я начинал учиться в четвертом классе. А вот и небольшой дом Лариных, где жила на квартире моя юная сестра, воспитательница нашего детского дома, и я тоже часто обитался там. Вскоре после нашего переезда туда из Сенной Губы ее направили на учебу в Петрозаводск, и я окончательно перебрался в детский дом, который размещался в двухэтажном кирпичном здании, принадлежавшем до революции купцу Клеерову. С борта нашего катера я разглядел его сразу. Военное детство нахлынуло на меня с такой печальной остротой, что мне с трудом удалось не показать это чувство перед товарищами.
Вот и пролив между материковой частью с деревней Вертилово и островом Леликовским, который прежде называли Малым Климецким, в отличие от Большого Климецкого, где находится Сенная Губа. Один из участков этого пролива местные жители называют в о д о х о ж е м. Вода в нем даже в сильные морозы промерзает слабо. Но мы с сестрой этого не знали, когда из Сенной Губы возвращались в Леликово. Шура шла впереди. Я с пешенкой следовал в двух-трех метрах позади. «Пешенка» – от слова «пешня». Такое зимнее орудие и сегодня имеется почти в каждом деревенском доме. Пешня состоит из двух частей: кованого стального заостренного наконечника и длинной деревянной ручки. Предназначена она для «пешения», то есть скола льда, когда пробивается прорубь. Маленькие пешенки делались и для детей. В Сенной Губе меня снабдили такой пешенкой, и с ней было веселее идти. Вдруг сестра, взмахнув руками, провалилась под лед. Я остолбенел. Вижу на поверхности только ее голову и слышу отчаянный крик:
– Братец, я тону. Помоги!
Действовал я бессознательно, но правильно. Уже потом я подумал, что если бы ринулся к ней и протянул руку, скорее всего, вытащить из полыньи не сумел бы и сам оказался в воде. Выручила пешенка. Я в какие-то секунды выдолбил лунку, упер в нее острый наконечник и, создав опору своим ногам, протянул сестре руку. Молодая и сильная, она смогла преодолеть не только барьер страха, но и скользкую кромку льда.
Дальше мы не пошли, а повернули к деревне Вертилово. В первой же избе нас обсушили и отогрели на русской печке, напоили горячим чаем, и во второй половине дня хозяйка сопроводила нас в Леликово. Вот такие воспоминания промелькнули передо мной в те минуты, когда мы подъезжали к деревне.
Бригада рыбаков человек из пяти или шести размещалась в доме Клеерова. Рыбаки нас встретили приветливо. Понимали: мы прибыли не с пустыми руками. На столе появилась красная рыба, икра сиговая и ряпушковая, большое блюдо с холодной картошкой, толстые ломти хлеба деревенской выпечки. Рыбаки утром запустили свои сети, ловушки, невод, продольники… И делать до следующего утра им было нечего. Наш командир сходил к своему катеру и принес четыре поллитровки.
Увидев на столе посуду с прозрачной жидкостью, рыбаки оживились, и разговор стал веселее. Валентин знал меру, налил всем ровно по сто граммов. Выпили, и мы навалились на рыбные деликатесы. Закусили, закурили, на столе стояли еще две нераспечатанные посудины. Я решил, что мое присутствие в застолье необязательно, и, прежде чем его покинуть, поведал о том, что в этом доме провел первый послевоенный год, пока отец, вернувшись с войны, не вывез меня с острова.
Сославшись на то, что хочу наведать старожилов деревни, я поднялся. Меня никто не удерживал.
Прежде всего направился к Лариным. Наша бывшая хозяйка Анна Васильевна дома была в одиночестве.
Она внимательно всмотрелась в мое лицо:
– О, господи, да уж не Ванюшка ли Костин?
– Вот случай, Анна Васильевна, занес. Решил навестить.
– Ну-ну, садись, рассказывай. Как там Шура, как сам живешь? Вырос, возмужал. Семья, поди, есть? Сейчас самоварчик поставлю.
Я пытался отказаться, но она и слушать не хотела. Как же, отказаться от чашки чая в Заонежье – обидеть хозяйку. За эти четырнадцать лет она сильно изменилась, но была еще бодрой старушкой.
– А где Павел? – спросил я ее о сыне, с которым учился в одном классе.
– Паша мой в Петрозаводске. На Онегзаводе работает в столярном. Летом несколько раз приезжал. Отпуск дома проводит. Наловит мне рыбы, заготовит дров, огород поможет убрать. И зиму я живу преспокойно.
– Странно, но я ни разу не встретил Павла в городе.
– Так ведь город большой. А вы выросли. Могли и пройти мимо друг друга, не узнавшись.
Мы еще поговорили о том о сем, и, пообещав, что приду попрощаться, я пошел в свой старый приют. Наши еще не покидали застолья, но слишком хмельными не были. Валентин соблюдал меру. Погода стояла хорошая, и казалось, что утро следующего дня будет таким же. Но осень у нас капризна, погода переменчивая. Когда утром глянули в окно, озеро штормило. Ни о каком выезде на опохожку и речи быть не могло. Валентин сходил к своему катеру и принес две бутылки из оставшегося спиртного резерва.
– Последние, братва. На опохмелку.
Все с наслаждением выпили по стакану, закусили и стали ждать у моря погоды. А она не наступала. И только через двое суток рыбаки решили выйти в озеро, хотя волны с белыми «барашками» шумели угрожающе. Рыбаки вышли на своем мотоблоке, мы за ними. Пришли на место тони, где поставлены ловушки. Мы привязали свой катер к мотоблоку и перебрались на него помогать рыбакам. Вначале решили вытащить невод. Даже при наличии дополнительных сил шел он с трудом, и когда показался сам кошель с большим грузом трепещущего серебра, один из рыбаков с привычной ворчливостью заметил:
– Непогодь, что ли, столько рыбы нагнала.
А попало действительно много. Преобладала крупная ряпушка, сиги, были пальи и полдесятка лососевых туш. Рыбаки щедро нагрузили наш катер, не пожалев красной рыбки, и пожелали нам удачно доплыть до своего берега.
Валентин, заглянув в носовой отсек на своем катере, достал из ящика три поллитровки.
– От сердца отрываю последнее, но вам после опохожки это будет кстати.
Помахав друг другу, мы разъехались. Наш командор бодро смотрел вперед и вселял в нас уверенность в благополучном исходе.
– Не волнуйтесь,– сказал он нам, – две бутылки я еще оставил на разгон. Когда доберемся до берега, на прощание выпьем.
Отъехали километров двадцать. Началось широкое Онего, где волнам ничто не мешало проявлять дерзкий характер. Но оснований для волнений не было. Катер Валентина – это не лодочка прибрежного плавания, двигатель работал четко. И вдруг после звуков «чив-чах» сник и зачах. Мы встревожились, но наш командор, не раз попадавший в подобные переплеты, успокоил:
– Ничего страшного, мотор налажу. Садитесь на весла!
Вот когда они пригодились.
– Держите нос навстречу волне и не давайте ей, окаянной, хлестать в борты.
Из всех сил шли против ветра едва ли со скоростью ленивого пешехода. Валентин был хорошим механиком, знал душу любого мотора. Прошло минут двадцать, и двигатель вновь заработал. Но эти минуты для нас были самыми томительными. Держась как можно ближе к островам, мало-помалу мы вошли в Петрозаводскую губу и только тогда почувствовали, что опасность позади.
Поровну поделили рыбу ценных пород. Ряпушки было так много, что каждый взял столько, сколько мог унести. За завершение поездки и благополучный исход распили бутылку, вторую оставили Валентину отметить возвращение в домашних условиях.
Не успел я переступить порог дома, как жена с тревожной радостью кинулась меня обнимать. На следующий день узнал, что в остальных семьях тревожились не меньше. Волновались и на работе. Но поскольку живые и здоровые мы появились в цехе, нам автоматически прощалось двухсуточное отсутствие.
И снова Литературный институт, московская жара, лекции и конспекты. Останкинский пруд, походы в Парк имени Горького. Чешское пиво, колесо обозрения. Виктор Подойницын уже с новой колодой карт и с тем же свертком рукописей. Один рассказ о старом человеке, наконец-то нашедшем в жизни свое место, он сумел опубликовать в казахстанском журнале «Простор» и был несказанно рад этому. Первое печатное произведение – это как рождение первого ребенка. А у Виктора дома оставалось уже два малыша.
Через несколько дней он удивил нас тем, что вечером затащил в комнату своего творческого руководителя Павла Шебунина, автора популярного романа «Малахов курган». Церемонно представил его нам и принялся устраивать застолье. По такому случаю он прихватил бутылку армянского коньяка и две сухого грузинского вина. Нам было приятно, конечно, посидеть и в непринужденной обстановке поговорить с известным писателем.
Иван Сенников привез первую часть задуманной большой поэмы о золотоискателях. Герой этой поэмы находит золотой слиток и хранит находку в секрете от артели старателей. Мучается в сомнениях, не знает, что делать: уйти от артели под благовидным предлогом или сделать слиток общим достоянием.
– Вот посоветуюсь с Василием Лаврентьевичем, уж он-то подскажет нужный ход развития.
– Ваня, бог с тобой, – с горечью сказал Олег Семко. – Нет нашего Василия Кулемина.
– Как это нет? Да ты что?
– Да уж скоро полгода, как нет. Умер от жестокого инфаркта. А было мужику всего-то сорок два года. Вот так, Ваня.
Мы поговорили, погоревали. Решили помянуть…
Василий Кулемин в последние годы работал очень интенсивно и напряженно. Он писал в одном из последних стихотворений: «Люблю все делать на пределе, когда и жизнь на волоске». Вот и сгорел. Последний цикл его стихотворений «Баллада о красном колокольчике», то есть о внезапно разорвавшемся сердце, был опубликован в журнале «Октябрь» уже после смерти. А написал он эти стихи после первого инфаркта, когда дело, казалось, пошло на поправку. Но второй инфаркт уже не позволил ему подняться.
Я приехал на эту сессию уже со своей первой книжкой, которая вышла в Петрозаводске с его одобрения. На втором курсе я послал ему свою творческую работу за полугодие для зачета, в ней были все те лучшие стихи, которые он отмечал в моих работах. Прочитав последний мой цикл, он написал мне: «У вас есть добрая основа будущей книжки. Готовьте ее. Но еще раз подумайте над моими замечаниями и легкими поправками». И вот книжка вышла, ее заметили в газете «Литературная жизнь». А Кулемина уже не было. Я особенно горевал о его безвременном уходе. Он выделял меня из всего нашего семинара и не раз говорил об этом. Мне было приятно, но, с другой стороны, неловко перед товарищами. Я понимал, какие чувства они испытывали. В Литературном институте чуть ли не каждый считает себя талантливее других. Оно и понятно. Без такой уверенности в своей избранности едва ли напишешь что-либо путное. Больше того, уже когда мы учились на втором курсе, Василий Лаврентьевич, будучи первым заместителем главного редактора журнала «Москва», опубликовал в своем журнале подборку стихов «Молодые поэты России». Она открывалась тремя моими стихотворениями.
Мы гадали, кто же будет руководить нашим семинаром. И сходились во мнении, что лучше Кулемина у нас наставника не будет.
Олег Семко привез новую подборку стихов, и в них просматривалось растущее мастерство. Видимо, и женитьба, не только учеба, пошла ему на пользу. Двадцатипятилетний статный красавец, он женился на дочке генерала и из родного уральского Троицка уехал с ней в Запорожье к ее родителям. Через два года после окончания института по его приглашению мы побывали в Запорожье. Погостили два дня, купались в Днепре, пили сухое вино. Встретились с запорожскими поэтами, один из которых, Саша Стегенко, был хорошо известен на Украине. Попили с ними пива с вяленой днепровской, а может, и азовской, рыбой и выехали на отдых. К тому времени наша дочка подросла, и ей было уже восемь лет. Станица Кирилловка раскинулась на берегу моря. А домик, который мы сняли у хозяев, стоял совсем рядом с берегом. Отдыхали хорошо. Было много солнца и места на пляже. Я приспособился ловить бычков на удочку-закидушку, и рыба служила хорошим подспорьем к нашему курортному столу. Тем более что в единственной на всю станицу столовой в обед и ужин собирались изрядные очереди, и мы стали готовить у себя. Так благодаря Олегу я познакомился с Украиной.
В один из дней кафедра творчества организовала встречу студентов с поэтом Василием Федоровым. Состоялась она в актовом зале. Небольшое помещение было заполнено до предела. В те годы Василий Федоров был, пожалуй, на пике своей известности, хотя многотомные собрания его сочинений будут выходить позже. Еще за несколько лет до моего поступления в институт мы с Олегом Мишиным с нетерпением ожидали в журнале «Октябрь» его очередной поэмы. Нас восхищал его яркий талант, безукоризненное знание жизненного материала и отсутствие официально-казенного пафоса. Такие поэмы, как «Золотая жила» (не потому ли и наш Иван Сенников взялся за тему золотоискателей?), «Проданная Венера» и «Белая роща», сразу же выдвинули его в первый ряд поэтов того времени. А его поэтические афоризмы стали символами и кочевали из статьи в статью критиков и литературоведов:
Мы спорили о смысле красоты,
И он сказал с наивностью младенца:
«Я за искусство левое, а ты?» –
«За левое, но не левее сердца».
А разве не пророческим оказалось такое его маленькое стихотворение с большим общественным содержанием:
Все испытав, мы знаем сами,
Что в дни психических атак
Сердца, не занятые нами,
Не мешкая, займет наш враг.
…………………………………
Сердца, да это же высоты,
Которых отдавать нельзя.
Послушать поэта пришли даже прозаики. Василий Дмитриевич «взял быка за рога»:
– Вот что я вам скажу, дорогие будущие коллеги. Большой грамоты вы в институте не получите. Конечно, программа, если вы добросовестно будете ее осваивать, кое-что даст. Жизненный опыт у вас уже имеется. Но даже не он, в конечном счете, будет определять ваш литературный успех. Больше самообразовывайтесь. Пользуйтесь Москвой на полную катушку. Ходите по музеям, изучайте живопись лучших мастеров, посещайте концерты, всевозможные выставки и памятные места. Сами не подозреваете пока, как это вам пригодится. И реже заглядывайте или совсем не заглядывайте в буфет и ресторан Центрального Дома писателей. Ничего полезного там не услышите и не увидите.
Кто-то задал вопрос:
– Во сколько лет лучше всего переходить на профессиональную творческую работу?
Ответ был коротким:
– Тогда, когда почувствуете, что ваше искусство будет вас кормить.
Перешел к рассуждению о современной поэзии: что ждет от нее читатель и всегда ли тема играет главную роль в замысле произведения.
– Недавно в журнале «Москва» я прочел подборку стихов молодого поэта Ивана Костина...
Мы все уже знали друг друга на курсе, и много голов как по команде повернулось в мою сторону. Василий Дмитриевич уловил, что автор упомянутой подборки сидит в зале, но и бровью не повел, а продолжал терзать мою душу:
– Автор этих стихов явно не без способностей. Но в стихотворении «Стога» идет за броским образом. Стога он сравнивает с ракетами, которые вот-вот должны взлететь. Нет уж, оставим стогам свое земное существование.
Я был несколько огорчен. Но, подумав, даже обрадовался. А вот надо же, заметил во всей этой подборке именно мои стихи. И назвал явно способным. Мой в ту пору любимый поэт был одновременно прав и неправ. Что значит: придуман или не придуман поэтический образ? Важно, чтобы придумка органично вписывалась в ткань стихотворения, а это как раз выдержано. И потом Василий Дмитриевич почему-то не захотел в моей придумке видеть главный замысел стихотворения. Если я луг сравниваю с ракетодромом, косарей в защитных очках с космонавтами, а стога, следовательно, с ракетами, то почему бы им, находясь в этой строгой образной системе, и не взлететь? Тем более что все уравновешивается заключительными строчками:
Но встанут на чужой планете
Ракеты наши, как стога.
Словом, я мог бы возразить, но обстановка была не та. Такая возможность у меня появилась лет через пять, когда я приехал в Москву с группой карельских писателей на Дни карельской культуры и литературы. Здесь нашим поэтам, в том числе и мне, предстояло выступать перед литературной общественностью столицы. В фойе я увидел высокую стройную фигуру разгуливающего легкой походкой Василия Федорова. Представить меня было некому, и я решил это сделать сам.
– Здравствуйте, Василий Дмитриевич! Я из Карелии. Здесь на Днях культуры нашей республики. Моя фамилия Костин. Я автор стихотворения «Стога», которое вы при встрече с нами, студентами Литературного института, когда-то покритиковали, но уже хорошо, что заметили.
– Да, я помню этот эпизод. Более того, сейчас я готовлю книгу «Наше время такое». Это сборник статей о поэзии и поэтах, раздумья о литературном труде. Вот там, в одной из статей, я разбираю стихи нескольких сегодняшних поэтов, не только молодых. Да и вы сегодня уже далеко не мальчик, чтобы вас относить к этой категории. Там я вас не критикую. Просто размышляю о разных способах владения образной системой.
Я не мог удержаться и поведал ему, как в молодости мы открывали его первые стихи и поэмы, опубликованные в столичной печати. Он слушал меня несколько смущенно, но с явным удовольствием.
Родом Василий Федоров был из деревни Марьевка Кемеровской области, и значительная часть его обширного творчества (а он написал немало и прозы) посвящена родному краю. Литературный институт в послевоенные годы окончил уже зрелым человеком. На фронт не был призван по той причине, что, как инженер самолетостроения, находился на брони, и его стремление попасть на фронт не осуществилось. Инженеру огромного новосибирского завода, ему расти и расти в должностях. Но поэзия победила. Уже до приезда в Москву он написал много стихов и поэму «Марьевские звезды». О ней Твардовский на совещании молодых писателей сказал: «Отрадно!» Он поступил в Литературный институт, окончил его, но диплом не получил. Его творческий руководитель Павел Антокольский не допустил дипломную работу до защиты. Творческий метод Федорова, видимо, был чужд урбанисту и отчаянному западнику Антокольскому. А ведь в той самой работе были очень хорошие стихи, самого высокого уровня. Защитился он позже. Пример того, как иногда даже при наличии большого таланта трудно пробиваться в литературу. И только сибирский характер и заводская закалка помогли Василию Федорову не растеряться, найти свое место в большой литературе.
Ему я был благодарен и сказал в разговоре об этом, за то, что он откликнулся на смерть Василия Кулемина проникновенным стихотворением, в котором есть такие строки: «Я отыскал звезду красивую и разговариваю с ней».
Вспомнив еще раз о Кулемине, не могу не сказать о Сергее Орлове, его ровеснике, тоже участнике войны, боевом танкисте, написавшем знаменитые строки: «Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат». Похожи их жизненные и литературные судьбы, и уход из жизни был обусловлен одними и теми же причинами: тупой диктат партчиновников. Стоит об этом сказать чуть подробнее. В отсутствие главного редактора журнала «Москва» Евгения Поповкина его обязанности исполнял Василий Кулемин. Он и пригласил в редакцию для беседы за «круглым столом» ведущих архитекторов столицы. По итогам этого разговора был опубликован материал о будущем облике Москвы. Чем-то этот материал сильно раздосадовал чиновников ЦК. Заместитель заведующего идеологическим отделом по телефону грубо отчитал Василия Лаврентьевича. А потом ему и письменно был объявлен выговор. У впечатлительного поэта и без того не очень-то здоровое сердце не выдержало. Через несколько дней Кулемин оказался в больнице, откуда домой не вернулся. Один из его друзей, яркий талантливый поэт Сергей Смирнов, в день похорон, выпив лишнюю рюмку, крикнул:
– Подлецы! Это они убили Васю!
Аналогичная история произошла и с Сергеем Орловым. С послевоенных лет он жил и работал в Ленинграде. В жизни писательской организации занимал видное место. В начале семидесятых был приглашен в Москву на должность рабочего секретаря Союза писателей России. Литературные генералы Сергей Михалков и Юрий Бондарев, руководившие правлением, появлялись на работе, но не засиживались. Давали указания сотрудникам аппарата и уезжали. Справедливости ради надо сказать, что над ними был еще большой Союз во главе с Марковым, дважды удостоенным звания Героя Социалистического Труда, и над всеми огромной тенью нависал отдел культуры ЦК КПСС на Старой площади. Отдел этот возглавлял теперь уже прочно забытый партийный функционер по фамилии Шауро, прозванный в кругах творческой интеллигенции Великим Немым. Он сидел в президиумах на всех совещаниях и съездах и важно хранил великое молчание. Чем-то он мне напоминал нашего еще незабытого секретаря обкома партии по идеологии Михаила Христофоровича Киуру. Так вот всю рутинную работу в аппарате выполняли рабочие секретари. И одним из них был Сергей Орлов. Он-то заслуживал звания Героя, и не только за труд, но и за свои боевые подвиги. Он дважды горел в танке, дважды спасался от верной гибели. Лицо его было обожжено, и только густая борода с рыжинкой и бакенбарды скрывали эти огненные следы войны. Сын учительницы из Вологодской области, он рано начал писать стихи. До войны успел закончить два курса нашего Петрозаводского университета. В 1944 году выпустил в «Лениздате» небольшой сборник стихов «Третья скорость» и на этой скорости вошел в поэзию, став заметной фигурой в обойме поэтов-фронтовиков.
Я думаю, что Сергей Сергеевич напрасно дал согласие на переезд в Москву. Ленинград был ему душевно ближе, там были его читатели и круг верных друзей. Текучка в секретариате стала заедать, ослаб творческий тонус. Он писал, но в московских стихах уже не было огня и души прежнего Сергея Орлова. А служебные неприятности следовали одна за другой. Когда решаешь важные вопросы то ли издания трудов писателей, то ли их быта, очень легко сделать то, что не очень понравится высокому начальству. И вот однажды ему устроил телефонный разнос заместитель председателя Совета Министров России, ведавший делами культуры, некто Кочемасов. Да, сегодня он для нас уже «некто». После такого разноса у Сергея Сергеевича, как в свое время у Василия Кулемина, сердце не выдержало. Оно и у танкиста не защищено броней. Он после этого заболел и прожил недолго. В сборнике «Третья скорость» у него есть такие строки:
Вот человек – он искалечен,
В рубцах лицо. Но ты гляди
И взгляд испуганно при встрече
С его лица не отводи.
Он шел к победе, задыхаясь,
Не думал о себе в пути,
Чтобы она была такая:
Взглянуть – и глаз не отвести.
В этих стихах весь Сергей Орлов со своей ясной душой и стремлением к жизни и красоте.
Телефонов у нас в квартирах еще не было, и Союз писателей открыткой приглашал посетить то или иное мероприятие. На этот раз для беседы я был приглашен лично председателем Союза. Его правление тогда возглавлял Яакко Ругоев. В назначенный день и час я явился к нему в кабинет. Про себя решил, что если меня, еще не члена Союза писателей, приглашает сам председатель, значит, для важного разговора. Стоило мне переступить порог его кабинета, как он тут же со свойственной ему деловитостью стал говорить о главном.
– Иван, у нас на следующей неделе намечается значительное литературное событие. Союз писателей России впервые в жизни нашей писательской организации решил провести у нас в Петрозаводске свой выездной пленум. Главный разговор, конечно, будет о нашей литературе.
– А моя-то роль какой может быть, Яков Васильевич?
– Будет и твоя роль, работы всем хватит. Для начала есть конкретное поручение. Приезжают известные поэты и прозаики. И мы их пребывание должны использовать как можно лучше. Сейчас наш секретарь Александр Иванов составляет график выступлений наших гостей на предприятиях и в учебных заведениях. С кем-то из них тебе тоже предстоит выступить на твоем домостроительном комбинате.
Я зашел к Александру Александровичу.
– Вот, Иван, хорошо, что ты зашел. Ты в моих планах – боевая единица.
Поэт-фронтовик Александр Иванов был удивительно невозмутимым, уравновешенным человеком. Из себя его, казалось, могло вывести лишь известие о начале Третьей мировой войны. Да и то он, скорее всего, взяв свой писательский билет и удостоверение офицера, спокойной походкой направился бы в военкомат проситься в действующую армию.
– Вот что, Иван. Знаешь ли ты творчество московского поэта Сергея Смирнова?
Я тут же прочитал Иванову очень известное в ту пору смирновское стихотворение о солдатском котелке: «И для воина все достижимо, лишь бы только варил котелок».
– Тебе и карты в руки. Гости прибывают завтра в полдень. Узнай у администратора номер, где разместят Смирнова, вечерком вежливо постучись. Куда он денется, разрешит войти. И ты сразу отрекомендуйся, мол, пришел по поручению Союза писателей договориться с ним о выступлении на своем комбинате.
И Александр Александрович назвал мне день и время выступления. Кажется, был выбран самый просторный деревообрабатывающий цех, где зимой или в ненастья проводились все митинги.
– Справишься с этим поручением?
– Сочту за честь,– церемонно ответил я.
– Тогда желаю успехов!
Я подсчитал, что этот день у меня свободный, а на работу идти в ночную смену. Тут в самый раз вернуться к теме ночных смен. Долго в последующие годы я вспоминал об этих часах бдения. Создавая не так давно цикл стихов о трудовой юности, я даже написал стихотворение «Третья смена»:
Вникая в чертежи и схемы,
Порой с испариной на лбу,
Пять лет я бремя третьей смены
Волок на собственном горбу.
Ночная смена не для хилых.
Забудь, что правды нет в ногах,
Я подходил к станку в бахилах,
В солдатских грубых сапогах.
Мотор работал, завывая,
Был на пределе сам станок.
Лениво стрелка часовая
Свершала круг свой, скок да скок.
Деталь сверкала свежим глянцем,
О многом сердцу говоря,
Когда предутренним румянцем
На стеклах плавилась заря.
Я увещал себя при этом,
Имея внешне бравый вид,
Что даже солнце светлым летом
У нас на севере не спит.
В день прибытия высокой делегации я с замиранием души остановился перед дверью номера именитого поэта. Вежливо, как учил Иванов, постучался. Услышал негромкий резковатый голос:
– Войдите, если не дьявол.
Вошел и остановился у порога. Смотрю, в номере сидят двое мужчин. По книжным портретам в полного телосложения человеке узнаю широко известного ленинградского поэта Александра Прокофьева. Значит, второй – Сергей Смирнов, худенький, от рождения с небольшим горбиком. «Вот тебе раз,– подумал я, – шел на встречу с поэтом весьма и весьма почитаемым, а встретил и своего любимого Прокофьева». В те годы мы сильно увлекались его лирикой ладожской широты, размашистости народных образов и интонаций. Я слегка оробел и не знал, с чего начать. Они никого не ждали. Перед ними на столике стояла едва начатая бутылка шампанского. Я уж было хотел извиниться за вторжение и сказать, что лучше загляну завтра. Но тут услышал опять же несколько резковатый вопрос хозяина номера:
– Вы кто?
– Хочется думать, что поэт.
– Ах, поэт. Тогда читайте стихи.
Вот это знакомство, вот это испытание. И я, набравшись духу, отчеканил им стихотворение «Крановщица». Оно тогда считалось лучшим моим стихотворением и, возможно, по справедливости. Как раз, в том числе и за это стихотворение, в конкурсе Литинститута я занял второе место и получил денежную премию. Оно было опубликовано в журнале «Север» и, конечно, в моей первой книжке, несколько экземпляров которой я предусмотрительно прихватил с собой. Прочел и ждал приговора.
– Совсем неплохо, – сразу же откликнулся Сергей Смирнов.
– Даже просто хорошо,– решительно вставил свое слово Прокофьев. – Как он свою крановщицу обрисовал! Ну, царевна и царевна. Сидит там в своем высоком терему. И ведь учти, Сережа, что писать стихи о заводском труде – штука весьма трудная. Она немногим удается. Может, Смелякову и еще немногим. А Ивану Костину эта тема, я чувствую, подчиняться будет.
В это время в номер вошел Сергей Михалков с орденом на лацкане. Поздоровался со всеми, скользнул по мне равнодушным взглядом.
– Мы тут слушали стихотворение местного поэта. Нам понравилось. Прочитай еще раз, Иван, – предложил Смирнов. Я повторил с еще большим запалом. И когда закончил, настало время сказать что-то и третьему классику.
– По-моему, это хорошие стихи, – чуть заикаясь, проговорил он.
Михалков еще что-то сказал своим коллегам и ушел.
– За наше приятное знакомство можно и по глотку шампанского выпить,– предложил хозяин полулюкса и достал из буфета три фужера. Разлил остатки шампанского и сказал:
– За наше знакомство и успехи!
Глотнув прохладный напиток, я осмелел и сказал:
– Александр Андреевич, какое ваше стихотворение вам прочесть? Я почти все помню наизусть.
Он удивленно и недоверчиво посмотрел на меня:
– Так уж и все!
– За все не ручаюсь, но все известные знаю.
– Тогда читай «Развернись, гармоника, по столику»…
Я подхватываю следующую строчку и продолжаю:
– Я тебя, как птицу, подниму.
Выходила тоненькая, тоненькая,
Тоней называлась потому.
Ночь кричала запахами сена,
В полушалок кутала лицо,
И звезда, как ласточка, присела
На мое широкое крыльцо.
Я прочел еще одно по желанию поэта, а потом взялся и за хозяина комнаты, которого тоже, думаю, удивил. Даже сегодня некоторые стихи могу прочесть со сцены или в компании, а тогда знал на память изрядное количество строк этого славного поэта. И был вознагражден улыбками. И только тут спохватился:
– Да я ведь к вам, Сергей Васильевич, по делу пришел.
– Ах, по делу? А я-то, грешным делом, мог тебя с первой минуты домой отправить, если бы ты оказался пустым графоманом. Ну, выкладывай, в чем твое дело.
– Я работаю токарем на домостроительном комбинате, и по плану нашего Союза писателей вы должны выступить у нас в одном из цехов, если вы, конечно, не возражаете.
– Отчего мне возражать, выступим. Я люблю заводские выступления, и в Москве приходится выступать на заводах. Я ведь бывший метростроевец.
Час пролетел совсем незаметно. Я засобирался домой.
Но Сергей Васильевич возразил:
– Нет уж, попал в нашу компанию, посиди с нами. Когда тебе еще придется сидеть рядом с литературным генералом, – он кивнул на Прокофьева,– и пить шампанское?
Это я и сам понимал.
Сергей Смирнов удержал меня, и неспроста:
– Ты у нас самый молодой. Не откажись, Иван, сходи в ресторан, принеси пару бутылок шампанского, конфет и еще чего-либо на свое усмотрение.
И он протянул мне деньги. Я быстро исполнил просьбу, и разговор продолжался. Я еще что-то читал, рассказывал о себе, но больше слушал своих собеседников, которые пьянеть и не думали. Закалка и в этом смысле у них, видать, была хорошая, а у меня в голове шумело, и я, наконец, попрощавшись до завтра, ушел домой…
Пленум открылся 21 августа 1964 года. Проходил он в помещении Финского театра. Вел пленум председатель Союза писателей России Леонид Соболев. Это о нем на встрече с писателями несколькими годами ранее Н. С. Хрущев сказал: «Мне ближе позиция беспартийного Соболева, чем партийной Маргариты Алигер». Карьера Соболева пошла в гору, и вот ему, беспартийному, доверили руководить самым многочисленным из республиканских Союзом писателей в стране. Случай по тем временам беспрецедентный.
Я сидел рядом с Олегом Мишиным, и мы внимательно всматривались в лица известных писателей, вслушивались в их выступления. Хвалебных оценок в адрес карельской литературы не помню. Более того, Сергей Михалков, уж не знаю, что он сумел из наших книг прочесть, заявил: «Ваша республика, как и Петрозаводск, имеет свое лицо. Этого не скажешь о литературе. Может, слабы были переводы, или иные причины тут кроются, но читаешь, и становится скучно, потому что нет свежих мыслей, новых художественных открытий». Я думаю, не совсем был прав Сергей Владимирович. Были у нас замечательные произведения. Это и тогдашние уже повести Антти Тимонена, и книга Николая Яккола «Водораздел», и первые романы Дмитрия Гусарова. В отношении поэзии мы тоже были не беднее соседей. Активно и плодотворно работал Борис Шмидт, выступил с хорошей творческой заявкой молодой еще тогда Марат Тарасов. Может быть, в переводах проигрывали стихи Яакко Ругоева и Николая Лайне. Уже заметно выделялся Тайсто Сумманен, его, благодаря лучшим переводам Владимира Морозова и некоторых других поэтов, заметил и русский читатель. Самого Морозова уже в живых не было.
Яакко Ругоев, ни с кем не полемизируя, в своем взвешенном выступлении обрисовал общие тенденции развития карельской литературы за последнее десятилетие и привел убедительные примеры оживления литературного процесса, прихода молодых сил в литературу. При этом были названы наши с Олегом Мишиным имена. Олег к этому времени издал второй сборник стихов и готовился к вступлению в Союз писателей. У меня уже была подготовлена и одобрена секцией Союза писателей рукопись второй книжки.
Во время перерыва я подошел к Прокофьеву поздороваться. На мне была рубашка с яркой заонежской вышивкой. Зная любовь Александра Андреевича к проявлению духа народности, в чем бы он ни выражался, я надел эту рубаху. Старый мастер, видимо, понял это и с лукавинкой спросил: – Кто вышивал? Хорошая работа.
Я успел сказать ему несколько фраз о наших заонежских мастерицах-вышивальщицах, среди которых в довоенные годы работала и моя мама.
В Заонежье я родился,
Где певучесть слов жива,
Где вязала кружевница
Белой сказки кружева.
Но вскоре нас окружила группа участников пленума, и наша беседа была прервана. А потом подошел уже известный в ту пору фотокорреспондент Семен Майстерман. На следующий день снимок Александра Прокофьева, беседующего с молодым поэтом Иваном Костиным, появился в республиканской газете, а потом и в журнале «Север».
На трибуне пленума один оратор сменял другого. Выступали и гости, и хозяева. Не отказался от слова и один из карельских поэтов, который не пропускал ни одного подобного случая для самоутверждения и зубодробительной критики коллег, чем-то не угодивших ему. Хорошо поставленным голосом, с внешними приметами объективности он мог одну и ту же рукопись громить или хвалить в зависимости от обстоятельств. В данном случае он слишком уж демонстративно, в пику другим, стал возвеличивать двух молодых поэтов, возможно, и не лишенных способностей. Что-то неестественное уловил в этом проницательный Михалков и из президиума перебил нашего оратора, который читал стихотворение продвигаемого им молодого поэта: «Но это же дурно, просто оч-чень дурно». Оратор от неожиданности смолк. Выбитый из привычной колеи, он пытался что-то еще бормотать, но вынужден был покинуть трибуну.
Выступил очередной оратор, поэт Николай Доризо, автор текстов популярных песен. Говорил не столько о карельской поэзии, сколько размышлял, говоря словами Маяковского, «о месте поэта в рабочем строю».
Не знаю, готовился ли к выступлению Александр Прокофьев, но он начал со слов:
– Тут передо мной выступал петрозаводский поэт Марат Тарасов. Стихи, которые он цитировал, может быть, не так уж плохи. Слуху не доверяю, мне нужно посмотреть глазами, почувствовать душой. Вчера мне подарил свою книжку стихов рабочий вашего домостроительного комбината Иван Костин. У меня было время и посмотреть глазами, и почувствовать душой. В этом сборнике есть хорошие стихи, и почти все они соединены темой заводского труда, где в центре стоит человек со своим непростым внутренним миром. А надо сказать, тема эта удается по-настоящему немногим. Ивану Костину во многом удается, и верю в его будущие удачи. Я вам прочту стихотворение из этого сборника, и, думаю, вы согласитесь со мной. Оно о заводской крановщице.
Александр Андреевич раскрыл сборник и с нужными интонациями и без запинки прочел стихотворение. Зал аплодировал. Пусть не мне, а Прокофьеву, но все равно приятно. Олег Мишин, сидевший рядом, одобрительно пожал мне руку. В перерыве ко мне подошел поэт старшего поколения и редактор моей второй книжки Борис Шмидт, которая уже значилась в планах издательства. Пожимая мне руку, сказал:
– Видишь, как хорошо. Тебя отметил сам Прокофьев, а это немалого стоит. Сегодня во всей русской поэзии два поэта, кто по-настоящему обладает корневым чувством языка и духом народной поэзии. Это Твардовский и Прокофьев. Теперь тебе будет легче идти дальше.
Стало ли мне легче? Едва ли. В литературе и в искусстве чем дальше идешь и работаешь, тем становится труднее.
Кончился пленум, и мне предстояло вновь погружаться в стихию заводских будней с вечерними и третьими сменами. Но тут, уже перед окончанием четвертого курса, на меня навалилось столько непрочитанной литературы, контрольных работ, что я решил прервать свою заводскую работу и подал заявление на увольнение. Уход с предприятия нужно было согласовать с партийным бюро. А оно не всегда соглашалось снимать с учета коммуниста. Так произошло и в случае со мной.
Я решил действовать через городской комитет партии и зашел к заведующему организационным отделом. Алексей Колосов был моим хорошим знакомым еще по комсомолу. Встретил он меня приветливо, выслушал и помог. При мне же, не откладывая дела в долгий ящик, раскрыл список имеющихся вакансий:
– Нужен воспитатель молодежного общежития. Едва ли пойдешь?
– Нет, этот хлеб я уже пожевал. Да и оклад там небольшой.
– Небольшой. Или вот комендант административного здания. Оклад побольше, но понимаю, что это не для тебя. Ты человек творческий. Нужно найти что-то другое. Ага, вот это может подойти. Инструктор политотдела МВД. Должность офицерская, и оклад вполне приличный. Политработа не повредит литературным занятиям.
– А что я там буду делать?
– Отдел этот непростой. Он занимается перевоспитанием заключенных…
– Заключенных? – Я даже вздрогнул от неожиданности.
– Да ты не бойся. Там ведь тоже люди обыкновенные. Ну, оступились в жизни, и им нужно помочь исправить ошибки и вернуться в нормальную жизнь. Так как?
Дома я посоветовался с Аллой. Решили, что должность вполне подходящая, а работа в центральном аппарате МВД будет не более обременительной, чем на заводе. И жене не нужно будет стирать мою промасленную спецодежду, куда приятнее отглаживать горячим утюгом служебный мундир.
С направлением горкома уже через два дня я появился у начальника отдела капитана Воробьева.
– Партия оказывает вам большое доверие, направляя работать в наши органы, – сказал он. – Это вы должны уяснить. Должность у вас будет офицерская. Присвоим звание, наденете мундир с погонами. А это значит, что профсоюзные порядки на вас не будут распространяться. Выезд в командировку – по первому распоряжению. Иногда и выходной может превратиться в рабочий день.
Я не возражал. Как говорится, взялся за гуж, не говори, что не дюж.
Мы прошли по длинному коридору со множеством дверей по обе стороны, и он открыл одну из них. Вошли в кабинет с двумя столами у широкого окна.
– Вот этот стол будет вашим рабочим местом.
За вторым сидел капитан. Я пригляделся: да это же старый мой знакомый Валентин Колчин!
– Валентин, вот так встреча!
– Иван, я рад, что ты пришел к нам. Будем трудиться рука об руку.
Иван Сергеевич с нескрываемым интересом смотрел на сцену этой неожиданной встречи и не мог не спросить:
– С каких пор вы знакомы?
– Я Ивана Костина, когда он только что вернулся из армии, устраивал на работу в радиокомитет.
– Ну-ну, тогда найдете общий язык. А пока введи Ивана Алексеевича в курс дела и объясни специфику работы.
Валентин открыл свою половину сейфа и извлек из него нужные документы. Сейф состоял из двух этажей.
– Нижняя часть будет твоя. А пока читай это и не скучай. Я пошел в тюрьму встретиться с капитаном Игнатовым, воспитателем несовершеннолетних.
При слове «тюрьма» на душе стало неуютно. Это теперь ее называют помягче – следственным изолятором. «Значит, и мне, – подумал я, – придется со временем туда заглядывать». И я углубился в чтение документов, регламентирующих жизнь, работу и внутренний распорядок колонии. Разобраться в этом с ходу было не так-то просто.
Во-первых, мне следовало уяснить, что колония колонии рознь. Правда, слово «колония» мы произносили в разговорах, во всех же казенных бумагах и служебной переписке использовали слово «учреждение». Учреждения эти делились на категории по строгости содержания. Люди первой судимости, совершившие не очень тяжкие преступления, направлялись в колонию общего режима. За наиболее тяжкие – на усиленный режим. Воры-рецидивисты, убийцы, лидеры группового бандитизма и т. д. – на строгий режим. И для самых опасных и неисправимых преступников существует, конечно, и до сих пор особый режим. В годы моей службы колоний с таким режимом у нас не было. Все остальное было с избытком.
По поводу строгого режима приведу такой факт. Колония размещалась на Онде вблизи Надвоиц, и руководил ею в течение нескольких лет человек твердой воли и справедливых решений Гумар Нургалиев. Это отец нынешнего министра МВД России. Рашид Гумарович вырос в Надвоицах, там же окончил среднюю школу. Дальнейшая карьера его известна.
В период моих командировок Гумар Нургалиев работал заместителем начальника колонии по режиму и оперативной работе. Он был честным, исполнительным, и за эти качества, которые сочетались с большой скромностью, мы все его любили и уважали. Он давно на пенсии. Лет ему сейчас где-то под восемьдесят, а может, и с хвостиком. Не помню, уж сколько лет назад он подошел ко мне в троллейбусе:
– Иван Алексеевич! Как, узнал?
– Узнал, когда ты заговорил.
Много лет мы не виделись, оба изменились. Мы с Гумаром тепло побеседовали, вспомнили многих славных сослуживцев. Он даже на прощание успел мне сказать, что сын его Рашид, которого я видел еще школьником, служит в Москве и имеет генеральское звание. Это были еще те годы, когда Рашид Гумарович служил в одном из департаментов МВД России при звании генерал-майора.
Я начал службу, разбирался в документах и инструкциях. Через неделю, видимо, созрел для выезда в первую командировку.
С утра пригласил Иван Сергеевич.
– Первый вопрос. Устроена ли дочка в детский садик?
– Устроена, спасибо. Я даже не ожидал, что это так быстро решится.
Садик у министерства хороший и, главное, рядом с работой.
– Готов для выезда в командировку дня на четыре?
– Готов. Когда ехать и с кем?
– Завтра со мной. Едем в Надвоицы. Познакомлю тебя с тамошними начальниками подразделений. Там у нас два учреждения – усиленный и общий режим. Конкретных заданий для первой командировки нет. Главная задача – знакомство с замполитами колоний и начальниками отрядов. Это наш политаппарат, с которым мы работаем повседневно, а тебе предстоит работать и вникать в тонкости воспитательного процесса.
Я слушал, но к словам «воспитательный процесс» отнесся иронически.
…И вот я впервые в Надвоицах. Четыре года прожил в Сегеже, совсем рядом, а в Надвоицах, известных своим алюминиевым комбинатом, так и не побывал. Поселок понравился. Не зря он уже тогда значился поселком городского типа. В центре – трехэтажная гостиница с буфетом на первом этаже. Через площадь напротив – гастроном. В другом конце – ресторан. С десяток каменных жилых зданий.
Рано утром из колонии усиленного
режима за нами пришла машина. Мы вышли и направились к контрольно-пропускному входу. У меня уже была служебная красная книжечка, и по ней пропустили бы и без Ивана Сергеевича. У него даже не стали проверять, все контролеры знали его в лицо. Но прежде чем оказаться на территории зоны, я испытал сильнейшее душевное беспокойство. Увидев высокий серый забор с колючей проволокой и вышками охранников, не просто вздрогнул, мной овладело внезапное оцепенение: куда я попал?
Пересилив сомнения, я твердой походкой направился знакомиться с начальниками отрядов. Осужденные на меня посматривали с интересом. К людям в форме они привыкли, другое дело – появление на зоне человека в партикулярном платье. Это мог быть и прокурорский работник, и партийный начальник, и еще кто-либо, кто мог принести надежду на амнистию или пересмотр дел.
Не успел я еще дойти до здания первого отряда, где располагалась и конторка начальника отряда, ко мне подошел человек лет двадцати пяти.
– Гражданин начальник! Можно к вам обратиться?
Странное чувство я испытал при этих словах. Раньше я сам то и дело обращался к разным начальникам с просьбой меня выслушать. А тут впервые обратились ко мне как к начальнику. «Нет, – подумал я, – теперь уже задний ход не дашь».
– Я вас слушаю.
Молодой человек был осужден за коллективную кражу с какого-то склада. В общих чертах он дело представил так, что он вовсе ни при чем, а на него все свалили как на козла отпущения. Я записал его фамилию и пообещал разобраться.
В этот день успел познакомиться и поговорить с тремя отрядными. В отряде в те годы насчитывалось до ста осужденных. И начальник должен был всех знать, с личным делом каждого познакомиться досконально. Отрядный был и остается стержневой фигурой внутренней жизни колонии. И я сразу понял, какая колоссальная работа и ответственность лежит на их плечах.
В первые дни я чувствовал перед ними некоторую неловкость, словно мешаю работать. Не умевший еще ничего делать в этой системе, я был для них если не прямой начальник, то все же представитель того органа, который ими руководит. И я помнил наставления своего руководителя:
– Ты имеешь право делать замечания, вносить предложения, но делай это с умом и тактом. Человек ты, вижу, разумный и сам скоро поймешь, что к чему. Нас, политработников, могут уважать в колониях за разумную инициативу, верную подсказку. Вот, к примеру, в отряде капитана Глыги пять устойчивых отказчиков от работы. Если ты завтра с ними встретишься, поговоришь и сумеешь воздействовать словом, чтобы они вышли на работу, в твой служебный актив уже будет записано одно хорошее дело. Но для начала ты посмотри в спецчасти их личные дела.
А когда закончился первый день нашей работы и мы вечером в гостинице подводили некоторые итоги, Иван Сергеевич мои действия в основном одобрил. Я рассказал ему об обращении молодого человека. Мой начальник возразил:
– Иван Алексеевич, во-первых, не будь таким доверчивым. Спроси любого из тысячи на зоне, и он тебе скажет, что сидит ни за что. Во-вторых, заранее ничего не обещай. Просто ответь, что разберешься. Посмотришь личное дело, обдумаешь справедливость приговора, и приглашай этого человека на беседу.
В этом отношении у моего начальника был большой опыт. Еще до работы в органах он был инструктором административного отдела обкома партии, и ему не раз доводилось бывать в местах заключения и выслушивать подобные обращения. В самом деле, в дальнейшем я убедился, что почти все жалобы такого характера не имели основания для пересмотра дел.
С отказчиками от работы я на следующий день разобрался. Один из них так до конца отсидки и числился ярым отказчиком. Во время таких бесед я прибегал к собственному опыту рабочего человека, словом, все средства были хороши, чтобы в психологии человека что-то сдвинулось. И когда это делаешь не наскоком, а долго, методично бьешь в одну точку, результаты появляются.
Опыт работы приходил не в министерстве, хотя и там были дела по-своему значительные, а в командировках, где все наставления проверяются практикой.
Через месяц мне присвоили лейтенантское звание, а по возрасту уже следовало бы ходить в капитанах. Но это все же не армия, и на чины у нас мало обращали внимание. А еще через неделю позвонили из пошивочной мастерской, что готов мундир с брюками. Я принес все, что полагается, домой, примерил, подошел к зеркалу. Надел фуражку, еще раз глянул на свое зеркальное отражение и единственный раз в жизни остался доволен собой.
Командировки мои по этим учреждениям совершались регулярно. Статья «по командировочным расходам» не иссякала. Ездил я уже не в сопровождении своего начальника, а один. У нас с Валентином Колчиным поле деятельности было распределено. Он шефствовал над одними, я – над другими подразделениями, хотя это разделение обязанностей было условным. Освоил я и лесные отдаленные колонии, которые формально числились за Валентином. Словом, заменяли друг друга.
Одна из них находилась в лесах нашего севера, в Лоухском районе. От станции Энгозеро до нее нужно было добираться по лесной дороге километров двадцать. В лесное оцепление на повал я не выезжал, это была не моя забота. Все производственные вопросы решались другим отделом, хотя работали мы в тесном контакте. Может быть, любопытно изучать жизнь преступного мира и его обитателей поначалу. Со временем же это становится такой же рутиной, как ходить изо дня в день на службу. Помимо работы с отрядными, надо было вести индивидуальную работу с осужденными, и не только с отказчиками, хотя они-то как раз и приносили наибольший процент административных нарушений. Чем меньше было нарушений, тем выше оценивалась наша работа.
Но с большим воодушевлением я проводил беседы и с осужденными, и с сотрудниками колоний и их семьями, живущими в поселках по другую сторону забора с колючей проволокой. В каждом поселке были клуб, магазин, столовая, начальная школа, и люди жили в них, не чувствуя себя обездоленными.
Однажды в Энгозерской колонии в честь предстоящего ленинского юбилея меня попросили выступить в клубе перед сотрудниками с темой «Образ Ленина в художественной литературе». В то время я уже был напичкан разными гуманитарными науками и неплохо знал литературу, от западноевропейской до русской всех эпох, от теории французских философов-утопистов до основ научного коммунизма, которые оказались той же утопией. Словом, я вышел перед залом во всеоружии, без конспектов и пособий. Говорил минут пятнадцать, и вдруг в зале погас свет. Все заволновались. Но я успокоил аудиторию, сказав, что выступление продолжу и отсутствие света не станет помехой. И целиком перешел на современную поэзию, связанную с образом Ленина. Прочитал маленькую поэму Василия Федорова «Ленинский подарок», посвященную первым годам советской власти. Написано это произведение проникновенно, и в нем нет казенщины. В то время она вызывала у читателей душевное волнение. Прочитанная в темном зале, она произвела на слушателей сильное впечатление.
Я говорил о Ярославе Смелякове, Александре Твардовском, читал их стихи. Припомнил и то, как с поэтом Олегом Мишиным мы вместе написали стихотворение «Косарь» о времени, когда Ленин скрывался в Разливе под видом крестьянина и косил сено. Когда в зале вспыхнул свет, мне тепло аплодировали. На вечере присутствовал заместитель министра, курировавший работу и нашего отдела, Иван Дробаха. Позже он сказал что-то хорошее обо мне, так как Иван Сергеевич спросил меня:
– Чем ты так заместителю министра понравился?
Я только пожал плечами.
Но случались и неудачи. Накануне дня Советской Конституции мне поручили провести беседу среди сотрудников отдела. Мероприятие было формальным. Формально к нему отнесся и я. Провел беседу экспромтом, пытался даже внести ноту личностного характера. Но присутствовавший на беседе начальник, который стоял над моим начальником, нашел в моем выступлении немало просчетов. И того-то я не отразил, и другое важное положение обошел. Конечно, исходя из твердых партийных установок, он был прав. Жизнь его была на этом фундаменте построена. А я был прав по-своему. Зачем грамотным людям повторять избитые истины? Сам еще того не понимая, я не хотел вписываться в систему с установленными правилами.
Были и другие промахи. Но чтобы в таком учреждении не допускать никаких нарушений, следовало быть настоящим солдафоном. Были и такие, но большинство составляли нормальные люди, не позволявшие душе оказениваться.
Мой начальник был более гибким человеком. Многое понимал, да делать по-своему не мог. Он не раз нам внушал:
– Мы политработники, и наша главная задача – убеждать и воспитывать. А если этого делать не умеем, значит, нам здесь не место. Осужденного есть кому наказать. Тут и начальник колонии, и режимная служба, и охрана со своей винтовкой тоже не дремлет. А мы, помимо всего прочего, должны быть еще и психологами.
В одну из командировок в колонию общего режима я и решил стать психологом, поговорить с некоторыми заключенными, написавшими в наш отдел жалобы. Понимал, что формальный разговор пользы не принесет. И только устроился в кабинете заместителя начальника, услышал стук в дверь. В кабинет вошел человек лет двадцати пяти.
– Здравствуйте, гражданин начальник! Разрешите обратиться с устным заявлением, то есть с просьбой еще раз посмотреть мое следственное дело. В нем не все ладно, и осудили меня понапрасну.
– Хорошо, я попробую разобраться, но заранее обещать ничего не могу.
Листая дело заключенного Михаила Сальникова, вчитываясь в показания свидетелей, красноречивые и внешне убедительные доводы обвиняемой стороны, в методику расследования, наконец, я то и дело натыкался на противоречия в свидетельских показаниях и очевидную несостоятельность обвинения. Сегодняшний зубастый адвокат, вероятно, смог бы повлиять на суд, чтобы он снял с обвиняемого все обвинения. Но что мог сделать в те годы даже самый смелый защитник?!
Осужденный во время беседы бодрился, держался спокойно, видимо, с тем внутренним убеждением, что уже никто ему не поможет и отмеренный срок неволи следует вынести по возможности достойно. Было заметно, что первый, самый трудный год неволи его дух не сломил. И это было косвенным подтверждением его невиновности, которое никем во внимание не принимается. Осужденный разоткровенничался и признался, что времени здесь даром не теряет и то, что на воле было для него забавой, здесь, в колонии, стало смыслом жизни. Он пишет стихи и рассказы и исписал уже две толстые тетрадки. Печатается в стенгазете колонии «За свободу!». Есть в его активе немало стихов и на лагерную тему. Попросил разрешения прочесть одно из них. Надо сказать, что стихотворение было написано вполне умело, не лишено образности и удачных деталей. Одно из четверостиший я запомнил:
Очень мне обидно,
Что с партийных вышек
Им совсем не видно
Сальниковых Мишек.
Хорошо и уместно было сказано о «партийных вышках», которые невольно ассоциировались с лагерными, а поставленные во множественном числе Сальниковы Мишки придавали стихотворению обобщение: сколько таких Мишек, порой невинно осужденных, томится в местах лишения свободы по всей огромной Стране Советов! Хвалить стихи по служебным соображениям я не стал. Но и не ругал. Посоветовал держать подальше и особенно не распространять.
С выпиской из уголовного дела Сальникова я явился к помощнику областного прокурора. Множество нестыковок в следственных действиях, противоречивость следственных показаний заставили прокуратуру глубже вникнуть в суть вопроса. Разбирательство тянулось полгода. Были запрошены новые материалы, тщательно проверены старые, собраны дополнительные свидетельские показания. В конце концов, Михаил Сальников был оправдан, не отбыв и половины срока. После освобождения он появился с пропуском в моем кабинете:
– Не знаю, как вас и благодарить. Это вы сумели прервать кошмар моего заключения.
– Тут не только мои усилия были приложены. И прокуратура неплохо поработала, и суд пересмотрел дело беспристрастно.
На прощание Михаил прочел еще одно стихотворение, и я убедился, что передо мной весьма способный человек. В этот же день он уехал в Костромскую область в древний город Кологрив. Года через два я получил от него первый сборник стихов, выпущенный костромским издательством.
Прослужив в МВД четыре года и получив еще одну звездочку на погон, я понял, что мой моральный и духовный потенциал в этой работе исчерпан. Надежды мои на то, что обогащусь новым материалом и напишу нечто значительное, не оправдались. Материала было много, впечатлений хоть отбавляй. Но они решительно не годились для стихов. Ну, написал одно-два, а дальше? Писать криминальный роман? Но для этого нужно сидеть и не работать, да, видимо, ни для романа, ни для повести я тогда еще не созрел. Правда, спустя годы, когда мои впечатления отстоялись и многое увиделось несколько под иным житейским углом, я написал ряд очерков и рассказов, которые составили рукопись «Жена едет на свидание». В этих рассказах вместился весь мой опыт той работы и понимания сложного мира человеческих отношений. Но оказалось, что издать книжку очень сложно. Когда появлялась хоть маленькая возможность что-то издать, я выпускал или сборник стихов, или небольшую повесть. Найдется спонсор, обязательно издам.
Я не пожалел, что ушел из силовых органов. Но не ругаю себя за то, что пришел туда. После заводской жизни это был другой мир, иной срез жизни. Эта школа мне пригодилась.
Но перед тем как уйти, я съездил в Литературный институт для сдачи экзаменов за пятый курс.
Еще на четвертом курсе для замены Василия Кулемина руководить семинаром к нам был направлен уже тогда хорошо известный поэт Владимир Соколов.
Владимир Соколов! Смотрел и глазам не верил. Его первый сборник стихов «Утро в пути» сразу выдвинул его в первый ряд наших поэтов. Его стихи мы в Петрозаводске с моими молодыми друзьями читали и перечитывали. Это ведь его перу принадлежат строки:
С вокзала пулеметы в ночь трещали,
Огнем разрывов вспыхивала тьма.
Век на войну куда-то уезжали,
А тут она приехала сама.
Или вот это:
Уже газеты ежатся от стужи,
И им стекает за ворот вода.
А кто из любителей поэзии не останавливался перед таким четверостишием:
Я все тебе – душу и тело,
Все отдал до крайнего дня.
Скажи мне, куда же ты дела,
Куда же ты дела меня?!
И вот перед нами Владимир Соколов, стройный, невысокого роста, в темно-сером костюме. Скорее брюнет, чем шатен, с живым проницательным взглядом карих глаз. Ждем, что он скажет. Он сказал больше, чем ожидали. На встречу с нами он пришел подготовленным, познакомился с нашими работами и представлял творческие возможности каждого. Соколов был явно недоволен нашими успехами. Никого конкретно он не стал критиковать. Просто дал понять, что семинар слабоватый и перед памятью Василия Кулемина мы должны строже к себе отнестись.
Начались занятия. Обычно при обсуждении стихов достается каждому. Досталось и мне. Правда, некоторые из стихов многим понравились. А в заключительном слове Соколов сказал, что у Костина есть школа Блока и это отличная школа. Не знаю, откуда он взял у меня «школу Блока», я никогда особенно этого поэта не любил, признавая в нем только высокую культуру стиха и мастерство.
На следующих семинарах Владимир Соколов меня, как это делал не раз Кулемин, не выделял. Он вообще не склонен был к похвалам. Относился ко всем ровно. Говорил немного, но суждения были точны. Его мягкая ирония, к которой он был склонен, не обижала, а заставляла задумываться. Умел и разом хвалу свести на нет. Так однажды, когда мы обсуждали стихи Анатолия Ионкина, я был назначен основным оппонентом. Стихи были слабоватые, и мне пришлось приложить максимум усилий, прибегая к примерам, к сравнениям, вкладывая собственное понимание полновесности слова и образов, чтобы мой обзор выглядел и доброжелательным, и критически объективным. Выступили почти все, мнения были разные. Пришла очередь нашего руководителя подводить итог разговору. И, конечно, мне не могло не запомниться такое его высказывание: «По пониманию сути поэзии и умению разбирать стихотворные тексты я мог бы Ивану Костину доверить руководство нашим семинаром… – тут моя душа приподнялась и восторженно замерла, но после следующих его слов, – если бы он при этом писал лучше», – упала. Обидел ли меня Соколов? После кулеминских похвал, можно сказать, что и обидел. А прав ли он был? Да, прав. Стихи у меня и сейчас есть неровные. А тогда этих неровностей было с избытком. Я не всегда чувствовал нужное слово, органичность образа, гибкость стилистических оборотов.
Тем же летом нам с Олегом Семко довелось побывать дома у Владимира Соколова. Жил он тогда на Ломоносовском проспекте. Уж не помню, по какому поводу мы у него появились, видно, он сам зачем-то попросил об этом визите. Если только не изменяет память, ему срочно нужно было выехать по семейным обстоятельствам в город Лихославль Калининской области, откуда он был родом.
Он заказал такси, и мы провожали его на вокзал. По пути он поведал нам о дружбе с Евтушенко, которого уважал, но это не мешало ему говорить о своем товарище с долей едкой иронии. В дороге он рассказал о начале своего творческого пути. Когда в 1953 году вышел его первый поэтический сборник «Утро в пути», критика его заметила. О нем стали писать, и всякий раз, когда заходил разговор о поэзии молодых, наряду с Евтушенко, Вознесенским, Ахмадулиной, называлось и его имя. А когда этих поэтов за их прегрешения, скорее мнимые, начали поругивать, Соколова в этот перечень не включали. Так он и остался в некоей золотой середине…
В этот приезд Олег Семко привез из Запорожья рукопись своего первого сборника, которым предполагал защищать диплом. Соколов должен был это решить, ведь не кто иной, как он сам будет представлять на защите наши работы. Я посмотрел эту рукопись. За последние два года его голос окреп, темы стали значительнее, строка более упругой. Учеба в институте пошла ему явно на пользу. Через два года из этой рукописи получился хороший сборник, который увидел свет под названием «Первая проходная».
Виктор Подойницын тоже появился не с пустыми руками. Полгода тому назад журнал «Сельская молодежь» опубликовал его рассказ «В степи» о судьбе подростка, который стремился стать летчиком. К тому же один из его рассказов Павел Шебунин будет предлагать журналу «Юность».
У Ивана Сенникова тоже наметился некий прогресс с его поэмой о золотопромышленниках. Его герой не только отдает свой слиток в общее достояние, но и становится бригадиром добытчиков. За оставшийся год он намерен завершить поэму и представить в качестве дипломной работы.
Все так же по коридорам общежития разгуливает с гитарой в пижаме Анатолий Ионкин, изображая из себя литературного повесу, хотя как две капли воды похож на провинциального жуира.
Снова с утра лекции и семинары, а вечерами – книги и конспекты. Экзамены за пятый курс – дело нешуточное. Иван Сенников, как и в былые годы, утешает себя: « Меня не подведут шпаргалки». И упорно исписывает узкие полоски бумаги.
Учеба учебой, но и интересными литературными встречами этот август был насыщен. Владимир Соколов организовал нам на семинаре встречу с известным поэтом-фронтовиком Михаилом Лукониным. Это его строки в послевоенный период так любили цитировать критики:
В этом зареве ветровом
Выбор был небольшой.
Но лучше прийти с пустым рукавом,
Чем с пустою душой.
Мы с интересом слушали его рассказ о литературной молодости, когда он работал в Сталинграде на тракторном заводе и был нападающим в заводской футбольной команде. Это увлечение было настолько страстным, что он долго колебался в выборе между поэзией и футболом. Победила поэзия, и он решил ехать для поступления в Литинститут. Вошел в институтский дворик, а там играют в волейбол Александр Яшин, Маргарита Алигер, Михаил Кульчицкий. «Вот моя новая команда», – подумал Луконин.
Вместе с другими студентами института он добровольно ушел в армию для участия в финской кампании. Его лучший друг, молодой поэт Николай Отрада, из этого похода, как и многие другие, не вернулся. А потом Отечественная война, и снова Луконин в боевом строю то с автоматом, то с пером журналиста.
Разговор получился простой и сердечный. Луконин озарял нас доброй улыбкой на широком крестьянском лице и казался человеком во всем основательным – и в поэзии, и в жизни. Будучи одним из секретарей Союза писателей СССР, он не был кабинетным чиновником. Много ездил по стране, выступал и, как лауреат Государственной премии и общественный деятель, помогал людям в их жизненных неурядицах. Он предостерегал нас от влияния легкого успеха, убеждал, несмотря на трудности, идти своим путем.
В тот же день состоялась у меня еще одна интересная и памятная встреча. Во дворе института я повстречал Николая Николаевича Соколова, можно сказать, своего первого литературного учителя. Оказалось, что сотруднику института, консультанту кафедры творчества, ему во флигеле института предоставили небольшую квартирку. Мой учитель был слегка под хмельком и пригласил посмотреть свое жилище.
– Вот здесь я и живу, Ванюша, со своей маленькой семьей. Сейчас я дома один. А мы с тобой посидим на кухне и по рюмочке выпьем за встречу.
– Николай Николаевич, никак сегодня не могу. У меня же экзамен.
– Ну, тогда дело другое. Когда ты был сержантом и приходил ко мне в Костроме, я тебя вином не угощал. Знал, что солдату не положено. Да и я был бы хорош, если бы ты потом в части сказал: «Вот, дескать, был в гостях у поэта Соколова, и мы с ним-то и выпили…»
Оба тихо рассмеялись.
– Ладно, в следующий раз.
– Но я и теперь солдат, Николай Николаевич, солдат литературы.
– Да прочел я твою первую книжку и порадовался некоторым стихам. Не все стихи на одном уровне. Трудись, набирай силу… А знаешь ли, что в этой квартирке до меня жила вдова Андрея Платонова?
С творчеством Платонова я, к стыду своему, тогда знаком не был, но имя знал.
– Вот как? – только и мог сказать с удивлением.
– Самого-то Платонова я не застал, но видел, как его вдова переезжала отсюда, кажется, к родным в Воронежскую область.
Полухмельное состояние Николая Николаевича среди белого дня объяснялось тем, что в журнале «Знамя», редакция которого размещалась напротив в таком же флигеле, отказали в публикации его новой поэмы, над которой он работал более двух лет. Поначалу поэма была принята. И член редколлегии поэт Михаил Матусовский говорил ему ободряющие слова, что, мол, публикация – лишь вопрос времени. И вот отказ. Не все авторы с подобающей душевной твердостью выдерживают подобные удары судьбы. Думаю, Николая Николаевича это надолго выбило из колеи, но в этот день ему требовалась душевная разрядка.
Два Соколова. Оба хорошие, по большому счету, поэты. И два разных человека по возрасту, взглядам на жизнь, душевным качествам. У Николая Соколова душевные качества преобладали над талантом. У Владимира Соколова талант был выше его душевных качеств. Для меня символично, что первый из них поддержал мои первые шаги в поэзии и помог укрепиться в своей вере. Второй выпустил в мир литературы, дав перед комиссией хорошую оценку моей дипломной работе, которая состояла из первой книжки и рукописи нового сборника. Правда, новый сборник вышел совершенно в ином виде и от этой рукописи мало что осталось. Кроме того, через несколько лет после окончания института Владимир Соколов дал мне и рекомендацию в Союз писателей.
А через несколько дней после встречи с Николаем Соколовым секретарь заочного отделения сообщила, что в числе десяти поэтов нашего курса кафедра творчества включила меня в группу для выступления в выходной день на летней эстраде Парка культуры имени Горького и что вести эту поэтическую программу будет поэт Александр Жаров.
Мне было приятно. Я хорошо знал творчество Александра Жарова, в тридцатых годах он был особенно популярен среди комсомольских поэтов, а его поэма «Гармонь» имела у читателей большой успех. Она воспевала новый быт советской деревни, рефреном проходили строки: «Гармонь, гармонь, родимая сторонка, поэзия российских деревень». К тому же у меня будет удобный случай поблагодарить поэта за благоприятный отзыв на мою конкурсную работу при поступлении в институт.
Народу послушать поэтов Литинститута собралось много. Все места на скамейках перед эстрадой были заняты. Кому не досталось места, терпеливо слушали стоя. Дело было, конечно, не в нас, а в интересе к поэзии в те годы. После говорили, что это – заслуга популярных поэтов-эстрадников. Я с таким утверждением могу согласиться лишь частично. Первую волну интереса к поэзии создали поэты-фронтовики. Они выступали, ездили по стране, издавали книжки, дышащие и огнем минувших сражений, и жаром работ тогдашних буден. Это они передали эстафету поэтического слова эстрадникам, которые в пафос гражданственности и лиризм субъективного самовыражения привнесли нотку бравады.
Александр Жаров вел программу умело. Представляя нас, он давал краткие характеристики поэтам. Так, назвав мою фамилию, сказал чуть возвышенно:
– А сейчас перед вами выступит мастер токарного искусства, который готовится стать мастером литературного цеха.
Следом за мной слово было предоставлено Джеймсу Паттерсону. Среди нас он был самым известным. Ведь это его ребенком передавали из рук в руки по рядам в кинофильме Григория Александрова «Цирк». Конечно, Жаров не преминул напомнить об этом слушателям. А говоря о сегодняшнем Джеймсе, счел нужным пошутить, что этот молодой офицер флота успел удачно подзагореть, намекая на то, что славянские черты его лица преобладали над африканскими. Паттерсон, видно, давно привык к публичным выступлениям и держался уверенно, читал стихи хорошо. В одном из них я запомнил такие строки:
Как две матери, песни нежные пели
Мне Россия и Африка у колыбели.
Главный успех выпал, конечно, на его долю. После завершения я подошел к Жарову и поблагодарил его за благоприятный отзыв о моей конкурсной работе. Он пожелал мне успехов.
Два зачета по программе мы не смогли сдать: по белорусской литературе и теории стихосложения. Я был готов к сдаче этих зачетов в любое время, и это обстоятельство меня не угнетало. Напротив, была возможность лишний раз за казенный счет приехать в Москву. Дело в том, что профессор Власенко, который должен был принимать у нас зачет по белорусской литературе, был болен, а поэт Александр Коваленко, читавший нам курс по теории и практике стихосложения, находился в отъезде.
Таким образом, с двумя «хвостиками» я появился на работе в МВД. Доложил начальству. Оно, конечно, не было в восторге от того, что меня пригласят в институт еще и зимой, но мое появление было кстати. Некого было отправить для проведения смотра художественной самодеятельности в колониях. Мне не очень-то хотелось после Москвы ехать совсем в другой мир.
– А почему бы не съездить Валентину Колчину? – спросил я.
– Вот и к нему в лесную колонию в Энгозеро тоже наведаешься, – ответил Иван Воробьев. – Он туда назначен заместителем начальника по политико-воспитательной работе.
Мне осталось развести руками. «Вот так и меня однажды упекут в одну из колоний», – подумал я с грустью.
Позже я узнал, что Валентин в чем-то сугубо личном провинился перед своим начальником и тот устроил ему эту северную ссылку.
Командировка оказалась продолжительной, но с задачей я справился. Более того, для проведения смотра привлек компетентных культработников из числа местной общественности. Итоги смотра выглядели вполне впечатляюще, и я мог спокойно работать дальше. Но даже в своем кабинете без Валентина мне было неуютно.
Однажды прихожу с работы, сажусь в кресло у журнального столика, беру свежий номер газеты, которую не прочел на службе, наслаждаюсь домашним покоем. Живем уже в приличной двухкомнатной квартире с балконом. Квартира в каменном доме со всеми удобствами, разве что мусор нужно время от времени выносить. А это как вечерняя прогулка. Никто нам новое жилье не выделял, досталось оно нам в результате сложного обмена. Даже телефон удалось установить, что по тем временам было делом непростым.
Раздается телефонный звонок. Из бюро пропаганды литературы приглашают на завтра на встречу с Михалковым. С удивлением спрашиваю:
– Как, неужели приехал?
Сергей Михалков был уже председателем Союза писателей России, членом ЦК партии. И визит его не мог быть неожиданным. «Неужели, – думаю, – состоится важное совещание? Что ж, дождемся завтрашнего дня».
После работы надеваю выходной костюм и спешу на встречу. Небольшой кабинет нашего председателя уже полон. С трудом нахожу место, вглядываюсь в гостя. Да, перед нами Михалков. Но что за чудо свершилось: почему он так молод? Однако вскоре выясняется, что это родной брат Сергея Михалкова Михаил Владимирович. Почти его копия с поправкой лет на семь-восемь. А литературный псевдоним его – Михаил Андронов. Он член Союза писателей, автор нескольких документальных книг и сборника стихов «Война». На его слова написан ряд песен, которые хорошо известны среди пограничников. Что мы о нем знали? Ничего или почти ничего. А что мы знали о десяти тысячах писателей Советского Союза?
Хорошо, конечно, когда писатель получает широкую известность в стране или хотя бы в своем крае, но большинство работает и хорошо себя чувствует, не имея такой известности. Любой писатель, если книги его расходятся тысячными тиражами, независимо от критики, которая в значительной мере и создает известность, нередко искусственную, – он уже известен, у него свой читатель или слушатель. Порой читатель даже не обращает внимания на фамилию автора. Он прочел книгу, она ему понравилась, а фамилию ее творца он уже забыл на следующий день. Бывает нередко и так, что жизнь писателя куда содержательнее и интереснее его творений. Значит, он попросту не смог правильно распорядиться своим личным жизненным капиталом. Именно, как мне кажется, таким писателем и был Михаил Андронов.
Когда на встрече с ним мы приготовились слушать, многим из нас, вероятно, казалось, что ничего особо интересного мы от него не услышим, кроме рассказов о поездках по стране и пограничным заставам. Вот и в Карелии он намеревался посетить ряд пограничных отрядов. Однако уже с самого начала мы изменили свое мнение. Перед нами оказался не просто умный, увлекательный собеседник, а человек необыкновенной судьбы.
В совершенстве владея немецким языком, он с первых дней войны стал разведчиком. Вернее, его стали готовить для этой трудной и опасной работы. В центре подготовки решили, что Михаил Михалков будет действовать в образе немецкого лейтенанта Кригера, который находился у нас в плену, и подлинность его документов не могла вызвать сомнений. Часть, в которой Кригер воевал, не уцелела: кто оказался в плену, кто был уничтожен в жесточайшем бою. По разработанной легенде пленному Кригеру удалось сбежать. Операция его «побега из плена» разрабатывалась тщательно. Но во время инсценировки боя, который служил бы для переброски разведчика фоном прикрытия, подставного Кригера ранило по-настоящему, и раненого его подобрали немцы. Отправили в госпиталь, где он пролежал три месяца. Но что-то в поведении лейтенанта немецкой службе безопасности не нравилось, и больше всего – длительное отсутствие Кригера. Я не буду входить во все подробности этой истории, но дело закончилось тем, что его решили судить, но не как русского разведчика, а как немецкого офицера, якобы завербованного нашей разведкой.
– Дело принимало совершенно непредвиденный оборот. Но, как иногда случается на войне, помог налет наших бомбардировщиков. Разрывы бомб следовали один за другим. Не знаю, что осталось от того скопища немцев, что меня окружали, но это был мой шанс. Мне удалось скрыться. Скрыться-то я скрылся, но вскоре угодил в «плен» к своим. И меня переправили для допросов в штаб дивизии и допрашивали как немецкого офицера, не обращая внимания на мою легенду. Мне грозил расстрел, и, в конце концов, нарушая правила конспирации, пришлось назвать мои коды и позывные. Разобрались. Меня снова перебросили за линию фронта, но уже под другой легендой и с другими документами, повысив до старшего лейтенанта и снабдив нашивкой за ранение на Восточном фронте. На этот раз все произошло более успешно. Я «воевал» в составе немецкой части, совершал с ней различные перемещения, а потом и отступал с нею же. Поначалу командовал взводом.
Старший лейтенант Советской армии Михаил Михалков, он же Вилли Краузе, гауптман Вермахта, был вскоре назначен командиром роты танковой дивизии. Когда он спустя время увидел, что тучи над ним сгущаются, снял мундир немецкого офицера, переоделся в гражданское и двинулся навстречу своим. Долг разведчика он выполнил, сумел по налаженным каналам передавать ценные сведения, да и шел на встречу со своими наступающими частями не с пустыми руками.
Вот о чем поведал нам на встрече Михаил Андронов. После ее окончания я пошел проводить его до гостиницы «Северная», где его дожидалась жена-француженка, которая, как он объяснил, после дороги устала и слегка недомогает. Время было не позднее, и я пригласил Михаила Владимировича домой на чашку чая. Он принял приглашение, и мы уже у меня дома продолжили нашу беседу. Гость был неожиданный, но моя Айли сумела подать скромный ужин, как говорится, что бог послал, и даже нашлась рюмка водки. Беседовали мы долго и о многом. Помню, я спросил у него:
– Михаил Владимирович, то, что вы рассказали нам о вашей судьбе разведчика, – такой редкостный материал, который сам просится в книгу.
– Да она у меня давно уже написана, – ответил он. – Но не так-то просто ее опубликовать. Материал специфический. Кроме общей цензуры, еще нужна для публикации виза цензуры военной, а до этого на выход в печать должно дать согласие Главное управление разведки. И тянется эта волокита уже не один год. Но рано или поздно эта книга будет.
– Но неужели Сергей Владимирович своим авторитетом не может способствовать ее продвижению?
– Мой брат слишком занятой человек, да и не такой уж всесильный, как это кажется. Я сам с ним не могу встретиться месяцами. Мою рукопись он прочитал, решил подключить Симонова как знатока военной тематики. Костя человек отзывчивый, прочитал за два дня. Сделал немало замечаний, дал советы, как лучше построить повествование. Все это я сделал. И Симонов предложил мою повесть в альманах «Подвиг». Обещали напечатать.
Спустя несколько лет я прочел эту повесть в «Подвиге». В моей библиотеке не было ни одной книжки Михаила Андронова, и я решил, что на память об этой встрече он может расписаться на первом томе трехтомного собрания сочинений Сергея Михалкова. Что он и сделал, посвятив этот автограф моей дочке Лене: «Аленушке на добрую память о встрече в Петрозаводске. 1972 г.».
(Окончание в следующем номере)